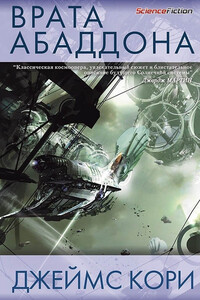Открывались глаза и видели что-то там, где должны быть тени. Под одеялом шевелились ноги, но не чьи-то, а просто ноги. Женщина бормотала во сне, ей снилось, что она репетирует танец и забыла все па. До туалета несколько шагов, и еще по нескольку шагов до других туалетов при других комнатах. Одни слева, другие справа, к третьим идти по коридору или по лестнице. Немало таких, которые встроены в стену каюты и снабжены вакуумным сливом для условий невесомости.
Поблизости палец трогает выключатель, и становится светло. Рука придерживает мягкий теплый пенис, и моча струится на белую керамику унитаза. Облегчение, и мыло, и теплая вода, и свет гаснет.
В детской спит ребенок. Он уже вырос из детской кроватки. Это из того, что известно. А чуть дальше, но не слишком далеко, дочь уже встает на работу, старается не шуметь, но такой тихий звук тревожит сильнее открытого шума. А здесь в доме никого, только тишина и червячки, которых называют «слизнесверчками», на дорожке. И гудит, рокочет корабельный двигатель – двигатели всех кораблей разом, словно хор цикад.
Рука, трогавшая выключатель, отодвигает занавеску. На окне остались пятнышки от дождевых капель, а за окном звезды. Женский голос зовет: «Кит?» – и открываются еще одни глаза. Голый мужчина стоит у окна, смотрит в ночь, но с ним что-то очень неладно. Тот, но не тот. Знакомый, но незнакомый. Вывернут не в ту сторону, потому что он не в зеркале и не тот, кто смотрит на себя в зеркало, – а вот теперь тот.
– Кит? – снова позвала Рохи, и Кит свалился в себя, как с крыши прыгнул.
Преодолевая головокружение, качнулся к уборной, упал на колени, и его стошнило в унитаз. Желудок опустел, а его еще выворачивало, с каждым спазмом все мучительнее, зато спазмы делались реже. Плакал Бакари. Рохи пела сыну, успокаивала, ворковала над ним, будто все нормально.
Наконец головокружение отступило, и Кит снова стал самим собой. В тяготении планеты Ньивстад тяжесть тела чем-то отличалась от корабельного ускорения, сколько Эйнштейн ни доказывай, что разницы нет. Он сполоснул рот над маленькой металлической раковиной и пошел в спальню. Рохи свернулась на подушках, Бакари уснул у нее на плече. Глаза у него под веками двигались – смотрел сон. У Кита кожа пошла мурашками от холода, и он натянул на себя термобелье. Пижамы у него не было.
Началось это на «Прайссе». С того мига, когда они умерли. Кит молчал, но про себя не сомневался, что так и было. Темные твари, реальнее всякой реальности, развеяли его и его сына, как сильный ветер сдувает горстку пыли. Это была смерть. А потом часы запустили в обратную сторону. Они не возродились, а раз-умерли. Кто-то, кого не было с ними в комнате, величайшим усилием добился этого. И изнемог от усилия. Кита переполняли растерянность, благодарность, смятение, страх. Он потерялся во вспышке воспоминаний, личностей, ощущений.
И еще в нем звучали голоса. Не настоящие голоса, слов не было. И на галлюцинации мигреневой ауры это не походило. Но он помнил, знал куски жизней, которых не проживал. Они оставались с ним, пока их опрашивали лаконцы с «Дерехо», и когда отпустили на Ньивстад, и даже когда их по прибытии провожали в кампус для переселенцев.
Он потерял представление о Ките в потоке сознаний, принадлежащих не ему. Это было внове. Случалось всего несколько раз, но после каждого он чувствовал себя прозрачнее и слабее связанным с действительностью. Как будто его основное я – то, которое он всегда знал, которое понимал под словом «я», – из объекта превращалось во что-то вроде привычки. И даже не стойкой привычки, вроде привычки к наркотикам или игре. А к такой, которую можно сохранить, а можно отставить. Пить к завтраку кофе, а не чай. Покупать одни и те же носки. Существовать как отдельная личность. Все это можно было делать, а можно не делать, невелика важность. С этой мыслью на него накатила новая волна тошноты, но сразу отступила.
Он, постаравшись не разбудить их, забрался в постель. Бакари лежал как теплый мягкий камушек. Рохи не открыла глаз, не шевельнулась. Он почти убедил себя, что она спит, когда жена спросила: