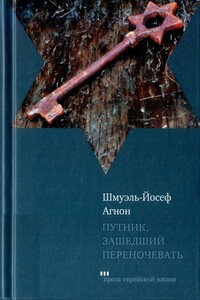— Ничего, — заметил ему
проницательный профессор Матвеев,—денег чуть-чуть заработал, да и траншеи в
армии копать будет сподручнее. А уж если надумаешь потом поступать к нам, я
подстрахую.
Едва забежав домой,
Семен кинулся к Ольге — вызвал ее прямо с лекции.
Дежурно поцеловав его в
щеку, она выразила недовольство, что он не дождался конца занятий, а уже потом
разглядела в его глазах накопившееся за два месяца разлуки томление,
смешивающееся с обидой, оставила вещи в аудитории и пошла с ним гулять по
городу.
Именно в этот день Семен
вдруг понял, что Оля теперь живет совсем в другом мире, в котором свои — новые
правила, свой стереотип поведения, не допускающий наивных мечтаний и безумных
душевных порывов. Жизнь там была целеустремленной и размеренной. Может, так ему
показалось? Но Ольга играла именно такую роль. Даже смотрела на него как-то
сверху вниз, ибо его в этот мир не пустили! Он только что постучал в ворота,
чтобы к нему выпустили самого любимого человека. Так или иначе Семен почувствовал
незримую пелену, которая выросла между ними, и чем дальше, тем больше
уплотнялась. И неважно: Семен остался в детстве, или Ольга с первых дней
студенчества стала играть во взрослую жизнь. Он разорвет эту пелену в первую же
ночь, когда всепобеждающая нежность уровняет их перед этим старым и
безжалостным миром со всеми его условностями, писаными и неписаными законами,
когда его неумелые и чуть дрожащие руки будут скользить по самому красивому в
этом мире телу, но вдруг услышит холодный и совсем неродной голос из того — этого
мира:
— Сема, не надо... давай
отложим до лучших времен, сейчас, боюсь, надо хотя бы три курса спокойно
закончить...
Вот так чувствуют себя
корабли, затертые во льдах! Любовь и расчетливость — огонь и лед.
8
— Вот дом, в котором я
прожил двадцать лет, — Семен вернул себя в настоящее будущее.
Голос дрогнул, какой-то
спазм сдавил горло. Война не вытравила из него сентиментальности, а только
добавила холодного цинизма. И то и другое прекрасно уживалось в одном человеке
по имени Семен Рогозин.
Нужно было объяснить эту
дрожь в голосе. То ли стало стыдно перед юной и обаятельной девушкой, которая
решилась стать его спутницей в этот день.
— В этом доме умирала
мама... Долго умирала. От рака, — ответил он на ее немой вопрос. — До последнего
дня пыталась все делать сама и в сознании ни разу не застонала и не
пожаловалась. Стонала иногда по ночам. В последние годы она стала набожной и
считала болезни наказанием. Даже радовалась им: «Раз Бог наказывает, значит, не
отвернулся от человека. Уж лучше я здесь помучаюсь, чем Там». Я видел раковых
больных на последней стадии, когда мы забирали ее из больницы. Они худые и
темные. А мама светлела. В последний день ее успели исповедовать и соборовать.
Некоторое время оба
молчали. Теперь снова нужно было возвращаться в солнечный и отнюдь не печальный
день.
— Я теперь каждый год в
Татьянин день хожу в храм.
— А у студентов, вроде
как, праздник...
— Умирать легко, если
веришь, что на этом все не кончается...
— А ты веришь?
— Да. Иначе зачем тогда
вообще жить? Чтобы всю жизнь бояться смерти и успеть ухватить как можно больше?
— Ты так говоришь, как
будто умирал уже не раз.
— Дурное дело не хитрое,
— опять в Семене проснулся видавший виды циник.
— А это уже другая
философия.
— Это не философия, это
сермяжная правда жизни, которая подсказывает мне, что в такой светлый день
рядом с обаятельной девушкой не пристало говорить о смерти. Прошу прощения за
несдержанность, воспоминания любят, чтобы ими делились.
— Наверное, нет ничего
плохого в том, что ты рассказываешь о себе девушке, с которой только что
познакомился.
— Наверное, нет, но
очень уж это похоже на подспудное стремление понравиться, сделать человека
ближе, поиграть умными мыслями, как мышцами, ненавязчиво вызвать к себе
сострадание через эмоциональное изложение печальных событий своей жизни.
— Нельзя так, до костей,
оголять человеческие отношения. Так во всем можно увидеть корысть.
Семен смутился, натянул
на лицо доброжелательную улыбку:
— Тогда давай
бескорыстно пообедаем где-нибудь!