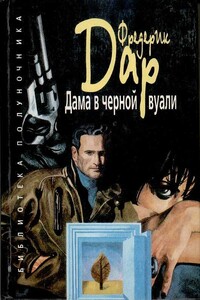Да, уж свалили, так свалили, эпилептики любви. Жилище Александра-Бенуа не устояло, равно как и целомудрие его хозяйки. Шатёр Золотой Парчи[18] принял ещё тот видок. Торчит только конец мачты. Как будто цирк после тайфуна. Фок-мачта держится, но раскачивается диким образом. Ещё одна нога высовывается из-под растерзанного полотна. На этот раз мужская. Я обнаруживаю заготовку в шерстяном носке бежевых тонов. Худая щиколотка с расширением вен, напоминающим Гаронну[19], когда она становится Жирондой. Нога роет землю, словно лапа фокстерьера, ошалевшего от тёплого следа.
— А-а-а! Мсье Феликс, я не могу поверить, не могу поверить, — удивляется восхитительная Берта. — Интеллигент, и вдруг такая страсть. Какой мужчина в вас скрывается! Вы меня убьёте, мсье Феликс. Так неожиданно, я просто поражена. А ведь утром мы ещё не знали друг друга! Вот тебе и раз! Погодите, я отодвинусь, ей-богу, мы перевернули фасолевое рагу! А палатка, смотрите, палатка сорвалась! Вы поможете мне её поставить, пока мой супруг не вернулся?
Но тот не проявляет разговорчивости со своим мотовилом. И поверьте, в связи с обстоятельствами, скромность просто неуместна в этом переплетении верёвок, палок, полотна, фасолевого рагу и плитки. Посреди всей этой продукции «Тригано»!
Курильщик трубки поднимает к безразличному небу глаза, полные тяжкой покорности.
— А ведь муж в десяти метрах отсюда, — вздыхает он. — Видите ли, месье, если что и убивает радость от кемпинга, это скученность.
— Вы говорите, что муж где-то поблизости? — реагирую я, вспомнив о своей миссии.
— Большая красная палатка, вон там.
Я оставляю курильщика трубки и сумасшедшую палатку и отправляюсь на поиски Толстяка. На подходе к кокетливой вилле, на которую указал человек с бородкой, до моих ушей доносится, несмотря на окружающую какофонию, спокойный голос Пухлого.
— Подождите, сердечко, — щебечет мой друг, — держите её, а я возьму шприц. Готовы? Так, нежно… Я введу полдозы. Надо быть осторожным, когда протыкаешь кожу, не рвать, а то мясо вылезет. Так… О, что-то не идёт! Может, я попал на сухожилие? Не бросайте её, я попробую встать с другой стороны! Вот, так лучше. Смотрите, как я ввожу эту прелесть!
Нелегальная медицинская практика! Похоже, у Берю будут неприятности в совете коллегии. Нет ничего противнее коллегии, всех коллегий. Я испытываю ужас от этого слова.
Уютное местечко, этот полотняный домик, в котором я появляюсь. Две комнаты-гараж-душевая. Окна, веранда! Суперлюкс кемпингового комфорта. На стенах картины. Туалетный столик, диван… Ну и ну!
Берю и какая-то молодая женщина, рыжее, чем ноябрьский лес Рамбуйе, стоят лицом к лицу по разные стороны стола. Живот Толстяка облачён в белый фартук, а руки в розовых резиновых перчатках. Он занят тем, что вводит содержимое шприца «Праваз» в сардельку большой величины. Он в слюнях и соплях от усердия. Глаза свисают как две электрические лампочки. Он дышит как человек, вкладывающий все свои способности в кропотливое дело.
Пересадка сердца — это ерунда по сравнению с этой операцией. По драматизму сцены ты чувствуешь большой риск, добровольный груз ответственности.
Слюни и сопли капают на сардельку. Александр-Бенуа делает вздох, который напоминает сработавший клапан.
— Готово, — говорит он хриплым голосом. — Засадил дозу. Теперь слушайте, что я вам скажу, сердечко. Положите её в кастрюлю с маслом и поставьте на слабый огонь. Когда она подрумянится, добавьте туда два стакана белого вина. У вас есть хорошее белое вино, моё сердечко?
Рыжая отвечает утвердительно.
Но профессор Берю не верит.
— Дайте-ка сюда, для информации!
Она достаёт бутылку из холодильника. Толстый открывает, выпивает из горла двадцать сантилитров, не шевеля глоткой, и даёт согласие.
— Не сухое, но сойдёт. Когда зальёте белым вином, варите двадцать минут. Потом добавьте чашку сливок в это счастье — и можете подавать. Поняли? Да, в этот самый момент позовёте меня, чтобы попробовать. Но я вам уже вперёд скажу, что таких сарделек вы не ели.
— Сколько я вам должна за водку? — жеманится туристка-гастроном.
Берю издаёт рёв осла: