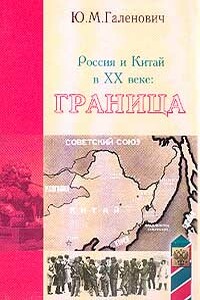представлял, что Речь Посполитая имела бы достаточно поводов к нарушению мира с
Турцией. Этим он утвердил многих во мнении, что и сам был участником замыслов
короля.
Паны группировались вокруг литовского канцлера, который делал королю самые
неприятные представления в самых почтительных словах, и Оссолинскии уступил
наконец просьбам своего
.
59
панегириста, чтобы к его напрасным убеждениям присоединил и свои. Король
оставался при своей решимости, однакож задержал в Варшаве пушки, приготовленные
к отправке.
Владислав сделался раздражителен, чего с ним до тех пор не бывало. На
непрошенный совет Якова Собиского, относительно Турецкой войны он отвечал с
таким язвительным презрением, что гордый магнат „впал в меланхолию, заболел и
вскоре умеръ*.
К увеличению досады, терзавшей короля, со всех сторон по сыпались к нему
письма от бискупов и светских сенаторов. Особенно горько ему было письмо князя
Иеремии Вишневецкого, товарища Конецпольского в Охматовской победе и самого
воинственного из магнатов, который, будучи в это время опекуном малолетнего
наследника Фомы Замойского, располагал значительною силою. Этот объявил королю
без обиняков, что Турецкой войны предпринимать без ведома Речи Посполитой не
следует.
Но громче всех был голос краковского воеводы, Станислава Любомирского,
считавшагося „великим и первенствующим в государстве мужемъ*. Он обратился к
королю с письмом но просьбе малопольских сенаторов, и его письмо разошлось во
многочисленных копиях и в Польше, и за-граннцей. Любомирский говорил, что король
нарушил права и вольности шляхетские, ломает свою присягу, советы иностранцев
предпочитает отечественным, искренним, опытным, и поступает так, как будто .Поляки
утратили свою верность, или не понимали подобных предприятий и не имели сердца
для смелого дела. Он просил не таить от Поляков войны, в которой дело идет об их
собственной шкуре,.и заключил свое длинное послание надеждою, что настанет время,
когда король уразумеет разницу между теми, которые хотят ему только полюбиться, и
между верными, преданными своими подданными.
Письмо краковского воеводы было сигналом ко всеобщему ропоту. Короля
называли „творцом вредоносных смутъ*, дразнили подметными письмами, похожими
на пасквили, грозили, что сейм разгонит навербованных жолнеров и привлечет
вербовщиков к ответственности.
Король нашелся вынужденным вернуться к первоначальному плану, к походу на
Буджаки, тем более, что в это время папа и князья итальянские обнадеживали его
своею помощью. Владислав начал объявлять публично, что никогда не имел намерения
начинать войну с Турками; что все его приготовления были направлены къ
60
войне против Татар; что никаких договоров против Турок не заключал, и вообще
ничего без согласия Речи Посподитой предпринимать не замышлял, так как все зависит
от сенаторской рады, которая вскоре должна состояться.
Этим способом успокоил он бурю, которая собралась нал его головою. Правда,
сенаторы не верили, что никогда он о войне с Турками не думал, но были убеждены,
что король уступил их просьбам и желает идти путем законным.
По пословице: „каков приход, таков и попъ“, польские можновладники до тех пор
вертели своими королями, вымаливая и вынуждая уступку за уступкою, пока наконец, в
лице Владислава IV, увидели лукавого дельца по предмету царственности, вместо
государя,—увидели не вершителя общественных дел, а школьника, которого от
времени до времени надобно стращать. Не имея сами гражданского самоотвержения,
требовали его от короля; присягая сами словом и противным слову намерением
воображали, что избирательный король будет верен своей присяге. Рано или поздно
должны были они проиграть в эгоистическую игру государство и раскаяться в своем
иезуитстве.
Поступки Владислава, повидимому, подтверждали то, чтб он говорил... 29 (19) мая
он решительно разорвал договор с Венецией, и объявил пораженному изумлением
послу её, что при таких обстоятельствах, как безденежье папы и князей итальянских,
войны для обороны Италии вести не думает; велел ему вернуть данное королеве
обязательство и принял заем на себя. Согласно просьбе Великополян повелел