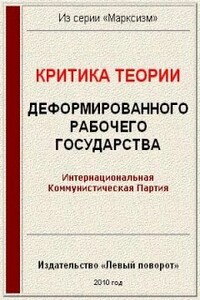Пилявцами, и пригласил послов к себе (Ло swego dworu) на обед.
В бедственных обстоятельствах панской республики, па долю королевских
коммиссаров выпала самая горестная роль—являть спокойный и величавый вид, когда
в сердце у них скребли мыши. Приамово посещение Ахилловой ставки не было столь
мучительным. Приам целовал руки убийцы своего сына, но этот убийца был ему равен,
и совершил свое кровавое дело геройски. Здесь пришлось выпрашивать милости у
собственных слуг и рабов, которые восторжествовали над исконными панами своими
предательством христиан в руки неприятелей Св. Креста. Разоренные козако-татарским
нашествием паны тянулись из последних средств, чтоб одеть свою ассистенцию и свой
шляхетский конвой сообразно достоинству Речи Посполитой, для внушения Козацкому
Народу грозной по их мнению мысли, что прогнанные из Украины землевладельцы
имеют еще довольпо средств для поддержания владычвых прав своих. С великим
опасением за себя самих и за своих женщин-героинь, добрались они до кратера, все
еще колебавшего страну бунтом, всё еще озарявшего се пожарами и заливавшего
кровью. Но то, что они видели и претерпели в дороге, оказалось менее страшным по
сравнению с тем, что предстояло им видеть и испытать в самом вертепе козацкого
Плутона. Действительность превзошла самое дикое, что ни закрадывалось в их
воображение.
Хмельницкий был теперь уже не тот, каким Кисел знал его в то время, когда, вместе
с Петром Могилою, морочил Козаков поддельным королевским письмом да укрощал
евангельскими изречениями. Ничего шляхетского не оставил в своих прие-
т. и.
45
S54
.
мах и обстановке козацкий Батько. До последнего слова и движения, превратился
он в запорожца, ненавистника всего панского и ляцкого. К такому превращению
побудила его не одна мстительная политика, но и горькая необходимость.
Еще в своем „вестовом письме по литоре" Кунаков доносил царю, что Татары,
после Корсунского погрома Ляхов, остались у Хмельницкого и „меж себя укрепились,
гетманъ—присягою, а Татаровья—тертью, что им друг от друга не отступиться, и ныне
де вся надежда у Богдана Хмельницкого на тех Татар, которые остались у него, а
Черкасом не довериваетъ".
Б настоящее время Козацкий Батыю опасался козацкой „зрадливости! “ больше,
нежели когда-либо, потому что „фортуна" послужила ему слишком усердно. Только
прикидываясь простаком и крайним ненавистником Ляхов, только показывая вид, что у
него с козаками „дума и воля едина", удерживал он их в повиновении, да и то с
помощью жолдовглх Татар. Вспомним показания пленных Козаков о замешательстве в
козацком таборе под Пнлявцами. Хотя в инквизиционных конфессатах надобно видеть
всего больше то, что желали вымучить инквизиторы, но весть о козацком
замешательстве все-таки имела свое основание. Приход орды, по словам
Мужиловского, „нечаемый", сделал тогда Хмельницкого, как и в Диком Поле, из малого
человека великим, из „последнего в человецехъ", как он выражался о себе, первым, и с
него все пошло у Козаков на стать. Поэтому он и теперь, окруженный козакотатарской
ордою, вел себя, как ордынец, или кочевой запорожец, так что, по замечанию одного из
коммиссаров, московский посол, человек почтенный и обходительпыии, часто бывал
принужден опускать в землю глаза во время беседы гетмана с полковниками, а посол
Ракочия, уезжая из Переяслава, пе мог удержаться, чтоб но сказать полатыпи: „Каюсь,
что прибыл к этим свирепым и безумным зверям (Poenilet me ad istas bestias crudeles et
irrationabiles venisse)".
За обедом у гетмана шла такая грубая попойка, что могла напомнить знатоку
козатчины известные запорожские стихи:
В нас у Сичи то и норов, хто Очинат знає: Як умывсь, уставши в ранци, дак чиирки
шук&е. Чи чиїрка то, чи кивип буде, не гледять переливы: Гладко пъють, як з лука
бъють, до иочнйи тини.
.
355
Разгоряченные горилкою, гетмаи и полковники не могли воздержаться от сарказмов
на счет князя Вишневецкого, Александра Конецпольского, Чаплинского и всех Ляхов.
Но это было только предуведомлением к будущим беседам с ненавистными гостями.
На другой день, 20 (10) февраля, коммиссары совещались о том, когда вручить