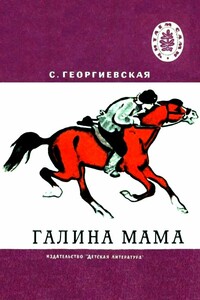Как он был благодарен за то, что Арсений Васильевич ничего не спросил о Саше! Потеплели глаза — теперь в них была шутливая и какая-то насмешливая серьезность.
— Мама, — сказала Сака. — открой коробку.
— Нет. Ни за что.
Коробку, однако, открыли. На шоколадном наборе лежала змейка из крокодиловой кожи.
— Ага-а-а! Я сразу сказал! — тыча пальцем в сторону этой змейки, возликовал отец. И вдруг: — Да… между прочим, Арсений Васильевич, уж вы меня извините за любопытство. Это правда, что Сана выбирала позавчера из рамы угли?.. Из каждой рамы по тысяче кусков угля. Угли, которые только что вышли из раскаленной печи. Я, разумеется, понимаю, что это путь к познанию, однако уголь, он выделяет газ, которым не может дышать человек. Неужели вы не нашли никого покрепче, чем наша Сана, для этих опытов?
— Она научный работник, — улыбаясь и не поднимая глаз, ответил Арсений Васильевич. — Только ученому я доверю отбор обожженных проб.
— Лана, отчего ты молчишь? — сердито спросил отец.
— А что ж я могу?.. — ответила Лана Пименовна.
— Не знаю, но, по-моему, у тебя была своя точка зрения на этот счет. Вы ее подкупаете поклонением, Арсений Васильевич.
— Видите ли, — прищурилась Лана Пименовна, — вы, быть может, скажете, что это с моей стороны материнская слабость… Но а детстве — ей было тогда лет десять — Сана страдала астмой. Иногда нам кажется, что вы ее ни щадите, посылаете туда, где можно бы обойтись без Саны.
— Я так счастлив, что ваша дочь стала одной из самых верных моих помощниц!
— Папа, и как ты можешь?! Вот именно ты… Ты!.. Я тебе уже объясняла, что природные залежи нужного угля… в общем, людям приходится спускаться за ними на очень большую глубину. И люди заболевают. Ты врач, а думаешь только о своей дочери! Это же эгоизм… Эгоизм! Неужели не понимаешь?
— В деле я руководствуюсь одними лишь интересами дела, — сказал Арсений Васильевич. — Удивительно, но иногда наши с Ксаной выводы совпадают, а ведь она так еще молода.
— Папа, я принесу шахматы, — рассмеявшись, живо сказала Сана.
— И двести граммов коньячку. Для меня, — вздыхая, сказал отец.
— Мама, можно ему коньяку?
Лана Пименовна пожала плечами.
Сана принесла шахматы, зажгла на террасе свет, достала две рюмка и налила коньяк.
— Выпейте за наши победы! — сказала Сана. — Или нет!.. Знаете что? Давайте — за месть!
— Черт возьми! — удивился отец. — Месть, конечно, сладка, но кому же мстить? Должно быть, себе самой?
Ему не ответили.
Александр Александрович и Арсений Васильевич принялись сосредоточенно играть а шахматы.
Саша спустился в сад, лег в гамак и закрыл глаза. Он легонько отталкивался от земля пяткой.
Саша сердился на Сану, я за что, совершенно не понимал.
Пусть она ко мне подойдет! Пусть заметит, что меня нет… Или — отец. Пусть — он! У них у всех свой интересы, свои словечки, а я…
Саша лежал в гамаке. Он отталкивался от земли пяткой.
«Подойди! — заклинал он Сану. — Заметь, что я один, что все обо мне забыли!»
Но Сана и не думала подходить. В доме послышалась музыка. Не иначе, как Санка включила проигрыватель.
И вдруг рядом с Сашей зашуршал гравий: к гамаку подошел отец.
(Он, должно быть, один-единственный думает обо мне. Ведь я ему все же сын, я — сын…)
Лицо отца было грустно, глаза прищурены Он молчал, задумчиво выкапывал туфлею мелкие камешки.
Может, отец прислушивался к шорохам тишины? Его лицо, полнощекое, грубоватое, залитое лунным светом, поразило Сашу богатством внутреннего выражения. Слушал, должно быть, как в глубокой тишине ночи потрескивает сучок, как легонько поскрипывает гамак… Грустно было лицо отца.
О чем он думал?.. Может быть, ни о чем? Но разве бывает такое, чтобы человек совсем ни о чем не думал?
— Ксанка пошла на стащим провожать гостя. Вот так-то, голубчик мой, — вдруг очень тихо сказал отец и опять замолчал.
— Не называйте меня «голубчик»! — ответил Саша. — Так вы, должно быть, зовете своих больных.
— Ну и вздорный ты все же малый! — шутливо сказал отец.
(«Вздорный»? Нет… Ну, а вдруг я «вздорный»? И он это знает лучше меня?)
…Сашу приняли, обогрели. Все. Даже Лана Пименовна. В этой их «хорошести», которая выражала «долг», Саша чувствовал недостаточность подлинного тепла. Все в нем кричало, все по-детски жадно и голодно требовало внимания — «возмещения душевных убытков». Он еще не знал той простейшей истины, что мы требуем только с тех, кто способен дать, с того мы требуем, кто к нам обращен болью сердца, нежностью, теплотой. Удивительно, как мы чувствуем это, как бессознательно требуем только от близких! Такова великая несправедливость и вместе с тем справедливость жизни.