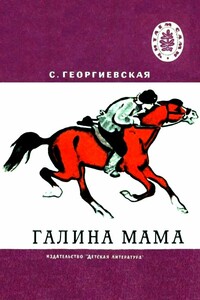Отец не сказал «до свиданья» — он вышел, слегка ссутулясь, не глядя на Сашу.
В комнате на полу валялась отцовская шляпа. Отец забыл подобрать ее.
6
Борясь с собой, стараясь быть очень спокойным, очень «обыкновенным», Саша поднимался по лестнице отцовского подъезда. И вдруг услышал звуки музыки, дальней, едва уловимой. Чем он выше взбирался, тем отчетливей становилась музыка. Соединенная с дальностью расстояния, с тем, что была чем-то очень ему знакома, она рождала в Саше тоску. Тоска была радостная, как в светлом сне, — такую тоску он про себя называл «белой».
…Что же, что же это такое? Откуда оно пришло?.. Он сейчас припомнит! Это что-то давнее, дальнее, как улицы его города с их запахами, как ветры с реки Боливажис… Минуту!.. Сейчас… Ускользнуло. Нет!..
Третий этаж, четвертый… Ах, вот где играют — за дверью отцовской квартиры!
Зажмурившись, Саша быстро нажал звонок.
Ему открыла незнакомая пожиная женщина, видимо домработница. Открыла, глянула сердито из-под бровей, повернулась и тут же ушла.
Играла в столовой его сестра Сана.
Когда он вошел, она встала, вернее вскочила, побежала ему навстречу, натянуто улыбаясь.
— Саша-а! — сказала сна протяжно… И улыбнулась снова, но на этот раз ясной, мягкой улыбкой. — Можно я тебя обниму, Саша?
Движения ее были скованны, выражали смятение, но голос тверд, а глаза безупречно ясны, правдивы.
— Ну, чего ж ты молчишь? Можно тебя обнять?
— Да что вы!
— Не «вы», а «ты». Я твоя сестра. И притом, между прочим, старшая. Не зазнавайся!
Привстав на цыпочки, она живо чмокнула Сашу в щеку.
Девушка была как-то сверх меры оживлена, излишне подвижна (видно, ей тоже трудно давалась эта встреча с братом).
Ее смятение, ее неловкость, ее великодушие тронули Сашу.
— Ну? Чего ж ты застыл? Садись… Нет, рядом со мной, к роялю. Ну? Ты что? Окаменел? Да?.. Давай-ка перелистывай мне страницы. Не будь эгоистом!
Она продолжала играть. И вдруг спросила;
— Узнал?
— Да. Конечно, узнал: ты Сана.
— Да нет же — Чурлёнис… Я играю Чурлёниса.
Как это странно и хорошо! Неужели такое бывает?..
Кто-то вот эдак взял и начал сразу о нём заботиться. Какая удивительная душевная деликатность! Неужели она его любит? Нет… Но, должно быть, хочет принять, полюбить.
Растерянный, он сидел рядом с ней, не зная, что а сказать, как выразить ей ответную нежность. А она продолжала скороговоркой, преодолевая неловкость первых минут:
— Я сразу достала Чурлёниса. — И она радостно щурилась на страницу переписанных кем-то нот. — Достала позавчера, когда к тебе уходил наш папа. («Наш»! Как хорошо она это сказала — «наш».) Мне добыл один мой поклонник — зануда страшный! Я тебе потом его покажу… Он старается! Он ко мне подлизывается, понимаешь?
— Это играют у нас а Музее Чурлёниса, в Каунасе, — там есть такая большая белая комната… Ты не бывала я Каунасе?
— Нет. Но теперь я поеду. Хочешь? — Сана тряхнула челкой и прямо, открыто и ласково заглянула Саше в глаза.
«Как она красива! И как особенна… Лучше Ани? Да. Много лучше. Если б она не была мне сестрой, я бы… я…»
Его трогало дерзкое движение ее головы, когда она как бы отбрасывала назад челку, ее открытый до беззащитности, доверчивый, ясный взгляд…
«Сестра-а-а! У меня се-стра-а-а!.. Нет, это просто немыслимо, невозможно… И это… Да, это хорошо!»
— Ну? Чего ж ты примолк?
— Я смотрю на тебя.
— И как?
— Ты красивая.
— Верно. Ты совершенно прав. Так держать! Расскажи-ка о Каунасе, о Чурлёнисе.
— …Я как-то не знаю… Вот, разве, музей. Это — новое здание. Там все из стекла… На улице — снег, и сквозь стекла — снег, а о гостиной, где его музыка, там тепло. Люди сидят и слушают. Нас возили зимой на экскурсию во время каникул. В Каунасе — там повсюду Чурлёнис… Даже в Музее скульптуры и витражей (это в старом соборе). Кажется, будто звучат стены: откуда-то из цветных витражей льется музыка. В этом музее тоже очень тепло и так торжественно и красиво, что не хочется уходить… А еще исполняют Чурлёниса на колоколах.
— Как это — на колоколах?
— Есть в Каунасе такие знаменитые колокола, их отливали в Бельгии. На этих колоколах играет Органист Гачаусус со своим сыном Гедвином.