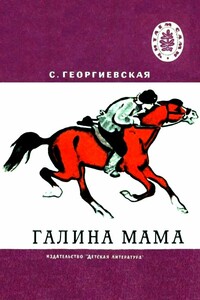Когда она встала, подбородок ее дрожал от сдержанной ярости.
— Как вы можете?! — вне себя вопрошала она. — Ведь, кажется, человек пожилой, почтенный. И верующий…
Саша низко опустил голову, он был готов провалиться вместе со стулом.
— Так! Добивайте! — Сказал отец. И, сжав два больших кулака, вроде бы почесал ими голову. — Добивайте. Пусть… Как хотите! Оправдываться не буду.
— И что? — не потерявшись, сказала ему старуха. — Ежели я пожилая, так это еще не значит, что я немая!
— Мама! Ты нас распустила, — сказала Сана.
— Да, — спокойно ответила Лапа Пименовна. И, красная, села к столу. — Кому чаю?.. Саша, хотите чаю? — Она впервые назвала его по имени. И вдруг не выдержала, взорвалась: — Вы должны понимать, что меньше всего виноваты вы. Мы… мы… вообще никого не виним. А на нее внимания не обращайте: она наш цербер. Она говорит: «Вот помру я, помру, а вы как будете без меня?» А я отвечаю: «Все трое тоже сразу помрем! Одни за другим. От грязи и голода!» Так-то, Саша. Мы вынуждены терпеть.
Саша медленно поднял глаза и заставил себя поглядеть в глаза Лане Пименовне:
— Я ее понимаю… Она… она как раз очень искренний человек. — И, смутившись своей невольно вырвавшейся дерзости, добавил почти шепотом: — Она искренне любит вас.
— Уж будто кому-то нужна любовь старой ведьмы! — раздалось из коридора.
— Ну, знаешь ли, — сказал Александр Александрович, — по-моему, это переходит меру добра и зла. Она — любит, а я — не люблю. Она — искренна, я — лукав. Я… я… — Он задумался, не обратить ли снова сжатые кулаки против своей головушки. Но отказался от этой мысли, поскольку никто ему не сочувствовал. — Давайте-ка собираться, переменим, так сказать, пластинку и обстановку. Саша, действуй! Бери кошелки, тащи их вниз. Лана, Сана, одевайтесь-ка, не возитесь: одиннадцать часов. Скорей! А то меня, чего доброго, здесь на чистую воду выведут! Сыт! Сыт, так сказать, вполне. Сыт по горло! Я чрезмерно сыт. Сыт чрезмерно. Действуете: в бой!
7
Машину собиралась вести Лана Пименовна. Она для этого переобулась, надела тапки и сделалась вовсе маленькой. Лицо ее между тем хранило строжайшее выражение. Лана Пименовна надела очки — голубые, в круглой оправе — и вдруг прочесала пятерней волосы (была у нее такая мальчишеская неожиданная привычка — пятерней прочесывать волосы, откидывая со лба седую прядь).
«Надо говорить, говорить что-нибудь, — думал Саша — Нельзя молчать. Особенно мне. Я должен притвориться, будто попросту еду в гости… Ничего особенного не произошло. Говорить, говорить… Скорей!»
— В этих очках вы похожи на стрекозу, — обратился он вдруг к Лане Пименовне.
И сразу опомнился, покраснел, смутился.
— На стрекозного деятеля, — подхватил его шутку Александр Александрович. — Лана! Ты имеешь у Саши успех.
Лана Пименовна сдалась: она улыбнулась. Улыбка, как и всегда, словно походя, освещала ее лицо; из-под пухлых губ, выражавших силу и твердость, мерцали два ряда белых зубов, не тронутых возрастом Улыбка производила в этом лице будто целую революцию: из строгого оно становилось шутливым и озорным, видно было, что Лана Пименовна не так уж серьезна, как хочет казаться.
— Ну? Вы, надеюсь, сядете? — сдвигая брови, спросила она.
— Сядем, сядем.
Крякнув, рядом с ней сел Александр Александрович, сзади — Саша и Сана.
Машина тронулась.
— Саша, расскажи что-нибудь, — попросила Сана: она тоже, видимо, очень хотела разрядить всеобщее напряжение.
— Рассказать? А что?
— Про ваш город… Про ваш знаменитый театр… Ты хоть разочек видел Ушинскиса?
— Ага, — смущаясь, ответил Саша. — Я с ним лично знаком… Но об этом я не буду сейчас рассказывать. Ладно?
— Конечно, как хочешь. Ты только о том, о чем тебе совершенно просто…
— Мы знакомы зрительно почти со всеми актерами города. Город маленький: постоянно встречаешь актеров мм улице…
— Ладно, — вдруг перебила Сана, — А ты не халтурь. Докладывай-ка о близких своих друзьях.
— Знакомых своих, — понимаешь, ну, личных, — у меня почти нет. Мы жили очень уединенно. Когда я закрыл наш дом… мой дом… и у входа поставил метлу… Вернусь — так пусть хоть метелка меня встречает. Сколько помню себя, столько помню эту метлу.