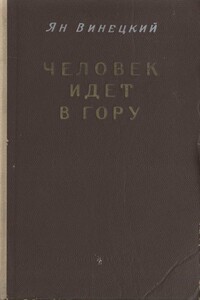Холодея сердцем, она готова была кричать от боли, от горькой женской обиды. Но, взглянув на исхудавшее лицо мужа, она с ужасом сознавала свое бессилие.
Говоря с ней, Петр временами задумывался, прислушиваясь к самому себе, точно в нем жило нечто очень дорогое, хрупкое, и она одним лишь чутьем угадывала, что то, о чем он думал в эти минуты, сильней его привязанности к ней, значительней.
Может, его изводит безумная, юношеская еще, греза об изобретении своего аэроплана? Нет, он слишком много сил отдает батарее, чтобы еще оставался досуг. А может быть, отсутствие времени и гнетет его? Но почему он молчит, почему не поделится с ней?
Гордость и еще что-то необъяснимое ею самой заставляли молчать и ее. Неужели Петр остыл, очерствел и пылкие клятвы юности остались лишь в воспоминаниях?.. А что если Петр… влюбился? Да! Влюбился в какую-нибудь женщину… Разве не случается таких историй?.. Сегеркранц как-то обмолвился, что «видел Петра Николаича на Светланке с восхитительной японочкой. Впрочем, — добавил он, — возможно, мне почудилось…»
Наденька рассмеялась тогда, не желая выдавать своей ревности, но, оставшись одна, проплакала весь вечер.
Вот и сегодня… Скоро уж полночь, а Петра все нет. В полуоткрытое окно тихо шептал что-то ветер. Сонно шелестели листвой клены.
Было ли это полудремой или мимолетным воспоминанием, но Наденька вновь увидала себя шестнадцатилетней.
Петя учился уже в Михайловском училище, тоскливо тянулись первые недели разлуки. Все в доме напоминало Петра — и дрозды, и соловьи, и голуби, казавшиеся сиротливыми и хмурыми. Как-то приснился ей сон: Ока. Лодка. И Петя сидит рядом. Алый парус — словно крыло лебедя, озаренное закатом. Вода бурлит, бьется о борта, и ветер щекочет уши не то стоном, не то буйной песней.
Ах, как хорошо, как сладостно было лететь по зеленым ласковым волнам реки! Ветер обвевал лицо водяной пылью, пахнувшей водорослями и кувшинками. Петя пел, смеялся и дурачился, бросая в нее мокрыми и мягкими, как шелк, кувшинками. И вдруг у Наденьки закололо в ушах, острая, пронзительная боль не проходила. «Продуло ветром, — сказал Петя. — Надень платок!»
Наденька проснулась. Была глухая ночь, за окном медленно всхлипывал и робко стучал по стеклу осенний дождь.
И так пленительно-сладостны были только что посетившие Наденьку видения, так хотелось их продолжения, что она торопливо встала, босиком дошла до комода, достала из ящика синий гарусовый платок и надела его, спрятав уши и спутанные кудрявые прядки волос… Потом легла в постель, простодушно надеясь оказаться снова среди теплых, ласковых волн, под сенью алого паруса, снова чувствовать плечо Пети, слышать его песни.
Но сна больше не было. Сны не повторяются и не имеют продолжения. До утра плакал дождь, и Наденька плакала вместе с ним…
Странно, теперь вовсе не выглядело смешным это полузабытое девичье огорчение.
Хлопнула дверь. Пришел Петр с тяжелой связкой книг. Зябко поводя плечами, Наденька недовольно проговорила:
— Где ты пропадаешь до поздней ночи?
— Как не стыдно ревновать меня к пыльным книгам, — улыбнулся он, обнимая ее.
— Оставь! — Она отстранила его руки. — Ты похож больше на стряпчего, чем на офицера.
— А каким должен быть офицер? Пить вино, играть в карты и призывно звенеть шпорами, завидя хорошенькую женщину?
Петр Николаевич был сегодня в хорошем настроении. Но усталость брала свое: за ужином он ел вяло, неохотно.
— Все смеются… «Что это ваш супруг решил профессию переменить? Книгами обложился, умничает… Не в сельские ли учителя готовится?»
— Кто смеется? — спросил Петр Николаевич, настораживаясь.
— Сегеркранц…
Петр Николаевич поджал губы.
— Петя, вы поссорились?
— Нет. Мне просто до тошноты противен этот… самодовольный гусак!
Она проницательно посмотрела на мужа и, строгая, обиженная, сдержанно-гордая, спросила, разуверившись узнать не спрашивая:
— Петр, что ты… ищешь?
Ее грустный, полный упрека взгляд говорил: «Что ты скрываешь от меня, Петр? Почему так долго молчишь? Скрываешь ведь, признайся!»
Петр Николаевич только сейчас остро, с прихлынувшей болью почувствовал свою вину перед ней. Он жил наедине со своей мечтой, забыв о Наденьке, о ее чутком сердце, которое должно, наконец, оскорбиться его невниманием и замкнутостью. Он взял ее обеими руками за голову, привлек к себе.