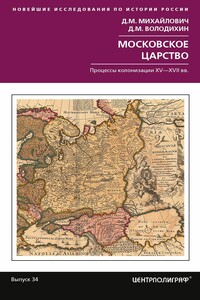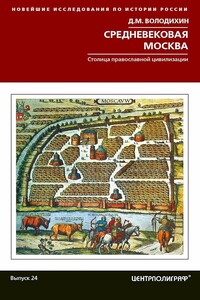Из более поздних источников мы знаем, что такого рода сооружения являлись средоточием общественной жизни, возле них происходили кончанские веча, вблизи приходских церквей хоронили покойников. Характерно, что возле церкви, раскопанной Д.В. Милеевым, обнаружено обширное кладбище XI–XIII вв.; ряд погребений найден и в самом храме. При этом состав погребального инвентаря говорит о неоднородности социального состава погребенных[593].
Подобные некрополи в городской черте, датируемые XI–XIII вв., не являются чем-то исключительным. Археологическими исследованиями было установлено наличие захоронений в Софийском соборе[594] и вблизи него. Фрагментарные материалы, которые дошли до нас от исследований церкви вблизи Владимирской улицы, также говорят о том, что вблизи храма находилось кладбище[595].
Таким образом, мы можем говорить, что указанным храмам в большинстве своем соответствовали городские некрополи. Это дает основание предполагать, что перед нами — следы кончанской структуры, зафиксированные в границах «города Ярослава». Летописи называют в Киеве только Копырев конец, который современные исследователи отождествляют с обширной территорией, начинавшейся сразу же за Львовскими воротами «города Ярослава» и занимавшей плато вдоль Вознесенского спуска, склонов Кудрявцы, в районе улицы Обсерваторной. Копырев конец имел собственную систему укреплений, синхронную валам «города Ярослава», а площадь всей укрепленной территории, согласно подсчетам П.П. Толочко, занимала около 40 га[596].
К сожалению, ограниченная часть археологически изученной территории лишает нас возможности более точно охарактеризовать его социально-топографическую структуру. Известно, что в XI в. Копырев конец активно застраивался. Как и в остальных частях древнего Киева, застройка была поусадебная; об усадьбах («дворах») говорят и известия о Копыреве конце в первой половине XII в. Речь идет о развалинах, открытых на перекрестке улицы Смирнова-Ласточкина и Кияновского переулка, а также в усадьбе художественного института[597]. Указанные храмы, видимо, являлись планировочными узлами данного района древнего Киева, выполняя ту же функцию, что и храмы «города Ярослава».
Суммируя наблюдения над социально-топографической структурой киевских районов, можно с уверенностью сказать, что материалы археологических исследований позволяют установить некоторые критерии, на основании которых мы можем говорить о складывании городской общины. Кончанско-уличанская структура прослеживается по материалам древнего Киева достаточно отчетливо. Следовательно, со второй четверти XI в. можно вести речь о начале второй фазы формирования волостной структуры — формировании в городе социальной организации нового типа — территориальной (соседской) общины.
Ее своеобразным дебютом в политической жизни Русской земли стали события 1068 г., неоднократно осмысленные в работах отечественных историков[598]. Наличие подробных историографических обзоров избавляет меня от необходимости развернутого комментария как высказанных мнений, так и событийной канвы[599]. Остановлюсь лишь на тех обстоятельствах, которые представляют несомненный интерес.
Во-первых, это роль веча в указанных событиях. Оно здесь выступило на первый план. Изгнание Изяслава и вокняжение Всеслава — факт доселе беспрецедентный. Вплоть до указанного времени нам не известно ни одного факта посажения на стол князя вечевым решением. Следует согласиться с мнением И.Я. Фроянова, считающего, что «…киевская община выступает в сентябрьских событиях 1068 г. в качестве самостоятельной, вполне независимой от князя организации. Оно принимает решение о новой битве с половцами, изгоняет неудачливого князя и сажает на стол нового правителя»[600].
Конечно, княжеская власть в лице Изяслава не собиралась сдавать свои позиции без боя. После своего возвращения при поддержке поляков Изяслав устроил расправу над инициаторами освобождения Всеслава и «възгна торг на гору». Эта акция расценивается исследователями по-разному. М.С. Грушевский одним из первых высказал предположение, что перенос торга преследовал цель поставить народные собрания под контроль княжеской власти