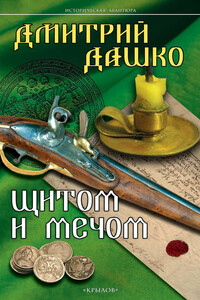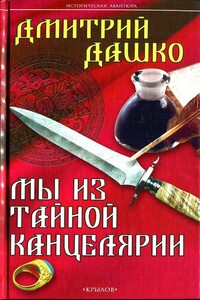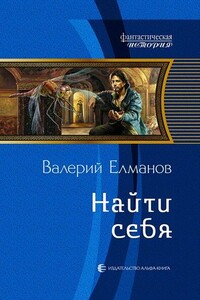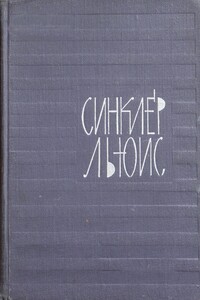Когда же Чурок сумел заставить свои ноги идти и заскочил в избу, то первым делом разбудил всех домочадцев и, пользуясь неоспоримой властью большака, заставил их всех, стоя на коленях, читать молитвы, продержав перед иконами аж до вторых петухов. Сам же, направившись спать последним, захватил с собой на теплые полати сразу две иконы из небогатого иконостаса, имеющегося в избе. Одну из них старик сунул себе под подушку, а другую положил на грудь и лишь тогда смог забыться в недолгом, тревожном сне.
А процессия и впрямь была удивительная. По улице, заливаемой ослепительно желтым ярким светом круглой луны, шла знаменитая не только в их деревне, но и далеко окрест ведьма Васса. Та самая, которую не далее как накануне пьяные тиуновы слуги закопали на отшибе кладбища на неосвященной земле и воткнули в могилу аж два кола. Дед Чурок сам все это наблюдал издали, дабы было что потом рассказать своим домашним.
Теперь же треклятая ведьма вновь гордо шествовала по улице и опять в сторону кладбища. Ночная сорочка на ней была вся перепачкана чем-то темным, и Чурок сразу понял — чем именно.
Следом за ней плелся загадочный русобородый здоровяк, который появился у них вместе с тиуном соседней деревни Заозерье. В одной руке здоровяк держал крепкий кол, а вторую прижимал к боку, но было непохоже, чтобы он гнался за Вассой. Скорее уж это она вела его за собой, будто на невидимой глазу веревочке.
Далее, следуя в двух-трех шагах сзади, за здоровяком устало брел сам тиун Заозерья, который также слыл личностью весьма загадочной и весьма темной. Во всяком случае, именно так гласили слухи, ходившие о нем. Кола у него в руке не было, но одну руку он прижимал к затылку, и было заметно, что идет он из последних сил.
Последней, изрядно отстав, шла дочка тиуна Кривулей, которая накануне столь удачно вышла замуж. Ей, судя по всему, тоже почему-то не спалось в теплой постели рядом с обретенным наконец законным мужиком. Та не молчала, все время подвывая на ходу. «О таком и рассказывать не стоит, — подумал, уже засыпая, дед Чурок. — Тут не то что не поверят, а и вовсе на смех поднимут».
Странная процессия тем временем добрела до разрытой могилы, на краю которой стояла деревянная домовина[82], грубо сколоченная из тяжелых дубовых досок.
Васса на ходу еще раз, как бы прощаясь, оглянулась в сторону идущего следом князя и послушно улеглась в свое последнее жилище. Константин подошел к гробу и растерянно уставился на лежащую в нем женщину. Та открыла глаза, покорно сложила руки на груди и тихо попросила:
— Только не медли, княже. Уж больно ждать тяжко. Боюсь передумать.
Ведьмак, нагнавший Константина в самом конце пути, внимательно посмотрел на своего напарника и протянул руку за колом:
— Давай я, княже. Не твое это дело.
— Нет, — шевельнула губами ведьма.
— Нет, — откликнулся князь.
— Тогда бей, — буркнул Маньяк. — Не мучь ее.
— Прощай, княже, — улыбнулась ласково Васса, закрывая глаза.
— Прощай, Василисушка, — вновь эхом отозвался Константин и с силой вонзил кол в грудь лежащей ведьмы.
Удар оказался настолько силен, что слышно было, как, насквозь пропоров тело, острие кола глухо стукнуло о днище гроба.
От боли лицо Вассы несколько исказилось, но почти сразу же разгладилось и как-то успокоилось. Константин глубоко вздохнул, колеблясь. Оставалось еще кое-что из обещанного им, но делать очень уж не хотелось. «Теперь-то он ей все равно ни к чему», — мелькнула спасительная мыслишка.
Но тут ему стало нестерпимо жаль несчастную ведьму, которая, скорее всего, заслуживала намного лучшей участи, чем та, что на самом деле выпала на долю горемычной. Жаль, невзирая на все те пакости, что она причинила людям, включая и то, что совершила прямо на глазах Константина этой ночью.
— Прими ее, господи, — шепнул он еле слышно. — Только не суди строго, а разберись как следует.
Он чуть ли не до крови прикусил губу и, низко склонившись над лежащей в гробу женщиной, бережно поцеловал ее в плотно сомкнутые губы. Крупная слеза покатилась по его щеке и, сорвавшись с подбородка, упала прямиком на губы ведьмы. Почувствовав соленую влагу, они еле-еле шевельнулись, что-то прошептав, и застыли, оставив на лице робкую беззащитную улыбку. Это было… страшно.