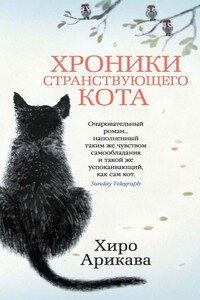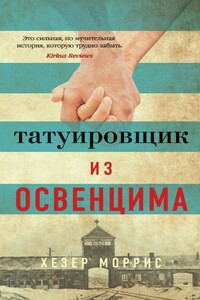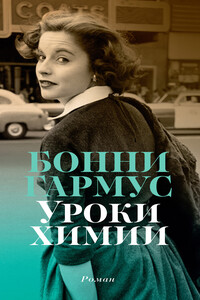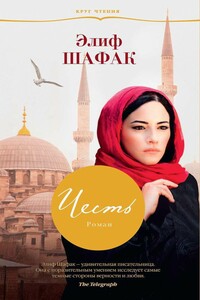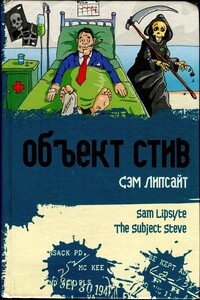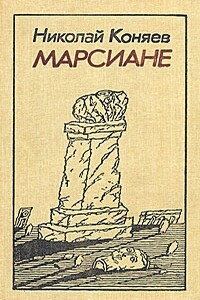– Представь, Адасим, приезжает откуда-то издалека белокурый светлокожий солдат, ни разу в жизни не видевший такого солнца, и останавливается здесь исключительно для того, чтобы помешать тебе убить ближайших соседей, а им – убить тебя. Очень печально. Да? Ну почему нельзя жить в мире и согласии без солдат и автоматов? – Мерьем замолчала, отрешенно глядя в пустоту, затем повернулась к племяннице. – Скажи, а вам в школе рассказывают о Кипре?
– В общем-то, нет.
– Я так и думала. Всем этим туристам, приезжающим к нам на остров, нужны лишь солнце, море и жареные кальмары. Только, ради Бога, никакой истории, это так угнетает! – Мерьем глотнула чая. – Раньше я из-за этого жутко расстраивалась. Впрочем, сейчас думаю, может, они и правы. Если оплакивать все горести этого мира, то в конце концов можно остаться без глаз.
С этими словами Мерьем села с легкой улыбкой на губах, которая мигом исчезла после следующего вопроса Ады.
– Я еще могу понять, почему бабушки и дедушки не смогли принять брак моих родителей. Другое поколение как-никак. Им через многое пришлось пройти. Но вот чего я категорически не могу понять, так это того, почему мои собственные родители никогда не говорили о прошлом, даже когда переехали в Англию. С чего вдруг такие недомолвки?
– Сомневаюсь, что смогу ответить на твой вопрос. – В голосе Мерьем послышалась явная настороженность.
– Вы все же попробуйте. – Наклонившись вперед, Ада выключила запись. – Между прочим, это не для школы. А для меня.
Лондон, начало 2000-х годов
Через девять месяцев после рождения Ады Дефне решила возобновить работу в Комитете по пропавшим без вести. Она искренне верила, что, даже находясь в двух тысячах миль от Кипра, может способствовать поискам пропавших без вести. Она начала посещать сообщества иммигрантов с острова, обосновавшихся в различных районах и пригородах Лондона. Ей особенно хотелось пообщаться с пожилыми людьми, прошедшими через ужасы гражданской войны и, возможно, желавшими в конце жизни поделиться кое-какими секретами.
Осенью Дефне, надев синий тренчкот, практически каждый день обходила улицы с табличками на греческом и турецком языках. Дождь барабанил по мостовой, потоком стекая по водосточным желобам. И почти всегда после дружеской болтовни кто-нибудь непременно указывал Дефне на тот или другой дом, где она могла найти то, что ей было нужно. Семьи, с которыми она таким образом общалась, встречали ее тепло и радушно, угощали чаем и выпечкой. И все же между ними витала тень недоверия, открыто не высказанного и тем не менее явственно ощущавшегося всеми присутствующими.
Иногда Дефне замечала, что дедушка или бабушка проявляли готовность говорить, когда остальных членов семей не было рядом. Потому что старики помнили. Воспоминания, ускользающие и обрывочные, словно клочья шерсти, развеянные ветром. Многие из этих людей, выросших в деревнях со смешанным этническим составом, говорили и по-гречески, и по-турецки, а некоторые, оказавшись в цепких лапах Альцгеймера, сползали по холмам времени в языки, забытые много десятилетий назад. Кто-то лично видел зверства, кто-то слышал о них, хотя были и такие, которые, по мнению Дефне, явно хитрили.
Именно в ходе этих непростых бесед Дефне поняла, что руки – самая честная часть тела человека. Лица прятались за тысячью масок. Глаза лгали. Губы лгали. Но руки – практически никогда. Дефне видела спокойно лежавшие на коленях руки стариков – иссохшие, морщинистые, в печеночных пятнах, скрюченные, венозные. Разумные и совестливые. Каждый раз, как Дефне задавала неудобный вопрос, руки отвечали ей на собственном языке: суетливыми движениями, жестами, обгрызенными ногтями.
Поощряя своих собеседников открыться, Дефне старалась не требовать от них больше, чем те были готовы дать. Однако Дефне беспокоило наличие глубоких трещин между членами одной семьи, но разного возраста. Первое поколение выживших – то, что пострадало сильнее всего, – несло свою боль близко к поверхности; воспоминания, точно занозы, врезались в плоть, некоторые прокалывали кожу, другие оставались невидимыми глазу. Между тем следующее поколение предпочитало забыть о прошлом – как о том, что сохранилось в памяти, так и о том, что оттуда выпало. В отличие от них, третье поколение оказалось готово раскапывать прошлое и срывать печать молчания. Как ни странно, но в семьях вынужденных переселенцев, сохранивших шрамы войны и пострадавших от насилия, именно молодые обладали самой старой памятью.