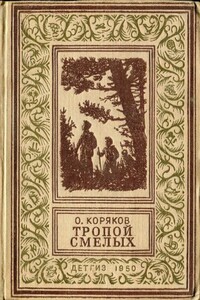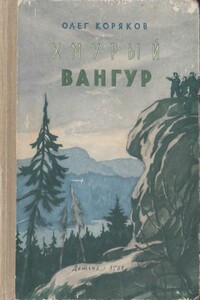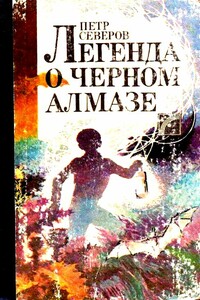— Сонь, посмотри, какое яичко, — позвал Петя.
Соня обернулась.
— Вытащил из гнезда?!
— А что ж особенного? Я ведь гнездо не разорил. Только одно взял.
Соня надулась, засопела и, покраснев, пробормотала:
— Ты, Петя, походишь на своих синиц. Какой-то безжалостный.
Петя собирался, видимо, возразить ей, но то ли не нашёл нужных слов, то ли раздумал — махнул рукой и сказал:
— А ну вас!
Минуты через две он спросил:
— А Ваня, значит, не безжалостный? Растения с корнем вырывать — это ничего?
— Я же для гербария, — тихо отозвался Ваня.
— А я? Не для коллекции, что ли?
— Ну, я ничего и не говорю.
— Знаем, как не говоришь!
— Что ты знаешь? Ну что?
— Перестаньте, пожалуйста, ну, мальчики, ну, прощу вас, перестаньте.
Соня заметалась от одного к другому и была готова заплакать.
Петя усмехнулся, пренебрежительно сказал «Чижики!» и вышел.
Соня сразу присмирела, сделалась грустной.
— Рассердился, — жалостливо сказала она и покачала головой. — Вы с ним поссорились?
Ваня засопел.
— Сам виноват, — пробормотал он. — Со своими птицами и дисциплину забыл, и товарищей.
— И товарищей? — Соня ещё раз горестно покачала головой. Потом она наморщила нос, тихонько подёргала одну из торчавших в разные стороны косичек и спросила с робкой надеждой: — А, может, вы ещё не совсем поссорились? Может, помиритесь?
В это время дверь в комнату приоткрылась, и в щель просунулась тёмная вихрастая голова Пети.
— Там в тумбочке у меня трава твоя всякая, сено, — сказал Петя, обращаясь к Ване, но не называя его по имени. — Ты убери. А то выкину!
И дверь захлопнулась.
Ваня ниже склонился над папками гербария. Соня потопталась в нерешительности.
— Нет, наверно, совсем поссорились, — сказала она и вздохнула.
Петя сидел в громадной вольере и кормил птиц. Их было великое множество, и все какие-то особенные, диковинные, самых ярких невиданных цветов. Петя сыпал им зёрна, которые он собрал с Ваниной ветвистой пшеницы. Зёрна были крупные, тугие и, должно быть, очень вкусные. Однако птицы почему-то не клевали их. Они беспокойно кружились над Петиной головой и оглушительно кричали что-то сердитое, злое. Петя никак не мог понять, в чём дело.
Вдруг из дальнего угла вольеры к нему, распушив свой дивный огнистый хвост, побежал павлин. Он бежал и шипел, присвистывая: «Ззачем сс товарищем поссорился, ззачем?» Перья его хвоста ярко светились, и от них веяло жаром. «Жар-птица», — подумал Петя и почувствовал, как горячая, душная волна ударила ему в лицо. Петя хотел выбежать из вольеры, но не мог пошевелить ногами. Он замахнулся на павлина рукой, крикнул и… проснулся.
Было утро. Ласковый, тёплый луч солнца, пробившись сквозь зелень деревьев, упёрся в Петин лоб и грел его. Гомонливая птичья стая, рассевшись на кустах под окнами, кричала, чирикала, щебетала и пела на все лады.
Петя перевернулся на живот и прищуренным глазом нацелился на солнце. «Скоро побудка», — решил он и оглянулся по сторонам. Все спали. Ваня скорчился на соседней кровати, одеяло с него сползло. Петя, вытянув руку, накинул одеяло на товарища и вспомнил, что они поссорились. Весёлый птичий гомон сразу показался слишком громким и надоедливым.
Губы Вани чуть двигались, будто он что-то тихо нашёптывал, а белёсые брови сошлись к переносице. Как было бы хорошо сейчас соломинкой пощекотать Ваню; он бы засопел, заморгал, вытаращил глаза, а потом бы они вместе рассмеялись и начали кидать друг в друга подушками…
Петя вздохнул, медленно слез с кровати и, натянув майку, побрёл на крыльцо.
На улице властвовало утро. Небо над головой было, как громадная чаша, в которой маляры только что развели голубую краску. Лишь по краям чаши, у волнистого от гор горизонта, плавали хлопья облачной пены. Деревья, словно ещё не проснулись, стояли тихие-тихие, и листья на них, как в сладкой дремоте, шевелились медленно и вяло. Чуть колебался и дрожал прозрачный лёгкий туман, всползавший к небу, туда же, куда струился белый дымок из кухонной печи. Повитая сизой дымкой гора Таёжная снизу была тёмная, хмурая, а верх её, обрызганный солнечными лучами, золотился и зеленел молодо и приветливо. В воздухе плавал аромат цветов и трав, напоённых росой.