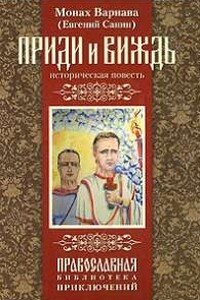Тут начинали напряженно думать даже самые ленивые умственно. Многие научились сопоставлять политическую действительность с официальной пропагандой и скептически переосмысливать то, что привыкли прежде воспринимать почти бездумно. Такие всегда приходили к неожиданным для себя выводам и удивительным открытиям. Большинство даже правоверно настроенных излечивались здесь от гражданского инфантилизма и политической наивности.
На щеках Рафаила Львовича росла еще относительно короткая щетина, а его рубашка с проклятыми обшлагами стала еще только серой. Но и он постиг уже многое, о чем прежде вовсе не имел понятия. Он знал теперь, что означали заголовки передовиц и газетные шапки, по которым он прежде равнодушно скользил глазами. «В Советском Союзе тюрьма должна стать тюрьмой!» Вспомнил, что расстрелянному после одного из знаменитых судебных процессов бывшему наркому внутренних дел Генриху Ягоде вменялось в одну из его тягчайших вин то, что этот нарком якобы превратил тюрьмы и трудовые лагеря в дома отдыха для врагов народа. И что сменивший Ягоду Ежов заверил вождя, что в кратчайший срок искоренит это контрреволюционное попустительство. Арестованные могли убедиться, что сталинский нарком не бросает слов на ветер и в палаческих нововведениях преуспел быстро и вполне. Целая серия этих нововведений дополняла то мучительное, что несла с собой уже одна только многократная перегрузка тюрем.
На окна камер, где содержались враги народа, были навешаны козырьки, которые так поразили Белокриницкого в ночь его ареста. Увидев эти железные ставни со двора, он ужаснулся тогда при мысли, что за ними почти не может быть дневного света. Но попав в камеру, Рафаил Львович убедился, что главное заключалось даже не в затемнении камер, а в ухудшении и без того плохой вентиляции переполненных тюремных помещений. Козырьки почти преградили доступ наружного воздуха к форточкам даже при ветре. Внутренняя же тюрьма была действительно внутренней, и все ее окна выходили в закрытый со всех сторон двор, в котором воздух оставался неподвижным, даже когда снаружи бушевала буря. Обмен воздуха еще происходил кое-как в холодную погоду, при теплой же он прекращался почти совершенно. Заключенные прозвали гнусное изобретение энкавэдэшных тюремщиков «ежовским намордником».
Битком набитые камеры не было надобности обогревать, вероятно, и в 40-градусный мороз. Но батареи центрального отопления оставались горячими даже при наступлении теплых весенних дней. Двадцать вторая, как, наверно, и все другие камеры, ежедневно на поверках просила дежурного по тюрьме отключить отопление. Но тот только усмехался — пар костей не ломит.
В солнечные дни выявилось еще одно свойство намордника. Он сильно нагревался от прямых лучей и начинал помогать проклятой батарее.
Медицинской помощи заболевшим здесь не оказывалось почти никакой. Если заключенный расхварывался уж очень сильно, его показывали через кормушку — так называлось оконце в двери — дежурному надзирателю. И тот решал, следует ли вызвать тюремного фельдшера или арестант просто придуривается, и такой необходимости нет. Здешний фельдшер был молодой парень, плотный краснорожий бурбон, из-под белого халата которого выглядывали треугольнички энкавэдэшника. Не заходя в камеру, тюремный эскулап через ту же кормушку ставил диагноз. И если находил, что человек болен, давал ему таблетку, которую тот должен был проглотить тут же в его и надзирателя присутствии.
Хлеб для заключенных выпекали из залежавшейся испорченной муки. Чтобы несколько заглушить слишком уж явный запах плесени, хлеб обильно сдабривали тмином. В первые дни ареста почти никто из заключенных не мог его есть. Но потом голод неизменно брал свое. Давали этого хлеба всего 400 граммов на день. Два кусочка сахара в дополнение к хлебной пайке, пол-литра пустого супа и две ложки каши из ячменной сечки мало что меняли. Через несколько дней появлялось чувство голода, становившееся затем все более острым и постоянным.
Но сильнее, чем голод, мучило постоянное недосыпание. Надопросы арестованных вызывали почти исключительно ночью, обычно сразу же после отбоя, когда заканчивалось ежевечернее копошение со сложной укладкой на свою треть, а то и четверть квадратного метра пола, приходящуюся здесь на человека. Вот тогда в тюрьме и начиналось самое интенсивное движение. Открывалась кормушка, и коридорный надзиратель, глядя в бумажку, вполголоса произносил: «На “мы”!» — или на «у», на «ры», на «ка», на «лы»… Все, чьи фамилии начинались на эту букву, должны были их называть, пока не следовало приказание «Собирайся».