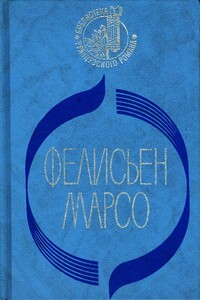— Ты думаешь? — Он пожевал губами, размышляя. — Да, ты прав. Ты, как всегда, прав, старина! Надо пускаться в путь. Рубикон перейден.
Прояснившись, Штерн поднял указательный палец вверх, точь-в-точь тем же жестом, каким его отец в зале суда останавливал прения сторон.
— Давай присядем, что ли, — сказал он, беря Марка за рукав.
Они присели на ступеньку, тесно прижавшись плечами.
— Буфет открыт, но еды там нет, — грустно сказал Штерн, настроение у которого менялось столь же стремительно, что и островная погода. — К тому же туда не протолкнешься...
Марк обнял его за плечи и слегка встряхнул.
— Ты сегодня что-то сам не свой, Макс. Ничего, всё образуется, все образумятся, — сказал он ободряюще, искренне надеясь, что так и будет.
— Хотел бы я тебе верить. Ох, как бы я хотел тебе верить! Но только, по-моему, Марк, это катастрофа. Это конец. Мы уже никогда не вернемся... Доктор нашел у меня аневризму... — прибавил он печально и, толкаясь локтем, полез в карман за носовым платком. Сколько дней мы просидели с ним за одной партой? Что-то около тысячи. Я у окна, он — у прохода. После обеда в школьной столовой у него всегда негромко бурчало в животе, а однажды в жаркий июньский день у него вдруг пошла носом кровь и он перепачкал экзаменационную работу.
Несколько минут они сидели молча. Марк задумчиво вертел в руках белый, как соль, зернистый камешек, который всегда носил с собой вроде талисмана. Вынимая платок, Штерн просыпал на землю серебряную мелочь, крякнув, потянулся было собирать, оставил, вздохнул, переложил, попутно глянув на часы, из левого кармана пальто в правый пузырек каких-то млечных капель, попытался расстегнуть тугую верхнюю пуговицу рубашки, оставил, снова вздохнул, слегка оттянул узел галстука, страдальчески подвигал шеей и развернул свой белоснежный платок, как флаг капитуляции.
Высморкавшись и отдышавшись, он уже другим тоном спросил, указывая на черный чемодан Нечета:
— Стало быть, это тот самый кофр?
— Да, Макс, тот самый кофр. Напоминаю тебе, что в нем — самая ценная часть нашего семейного архива. Кроме того, там жестяная коробка ректорских печатей и несколько раритетных изданий, среди которых сербский перевод «Странной Книги». Понимаешь, о чем речь? Так что будь, пожалуйста, бдителен.
— Неужели то самое издание: Лейден, начало семнадцатого века?
В глазах Штерна зажегся библиофильский огонек
— Так точно, тысяча шестьсот шестнадцатый год.
— Ух ты! Никогда не держал эту книгу в руках, хотя наслышан... — сказал он с такой знакомой Марку интонацией профессиональной зависти. — Хорошо. Я не буду спускать с него глаз. Будь уверен, — серьезно закончил Штерн тонким голосом, каким в детстве клялся вечно хранить тайны.
— Смотри, вся надежда на тебя. Когда доберешься до Марселя, дай знать Илюше, он заберет его на сохранение, чтобы тебя не обременять, — говорил Марк, припоминая, что еще важного нужно сказать на прощание. — Да, вот еще. Я положил в него рукопись своего последнего романа — того, что ты уже успел прочитать. Пусть пока побудет у тебя, от греха подальше, а там решим. Так будет верней. Да и где я теперь на островах смогу его издать? И последнее при первой возможности — пиши.
Штерн кивнул, и они оба поднялись.
— Простимся покуда, — сказал Марк, открывая объятия, и Штерн прижался к его шее холодным ухом и мокрой шершавой щекой.
— Так ты, значит, точно решил остаться? — все-таки спросил он, глядя на Марка снизу вверх с голубой поволокой печали, в которой уже как будто читались признаки морской болезни и неминуемые муки ностальгии.
Отстранившись от него, Марк оглянулся на мреющий в утренней дымке город, зубчатые башни Замка на холме, пустынные улицы. В воображении ему смутно рисовались одинокие вечера у камина, при свечах, редкие гости, темные площади, разбитые витрины, разграбленные лабазы... Из-за бессонной ночи все виделось ему слегка размытым, слегка искусственным, слегка ненастоящим, как если бы все вокруг — мосты, набережные, дворцы, колокольни, скалы соседнего острова — было только сказочно подробной картиной, удивительно точным воплощением чужого замысла.