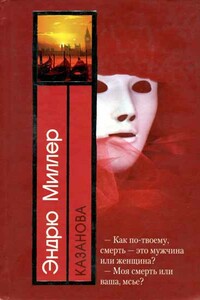Бросив сумку в прихожей, он прошел в кухню. Высокое окно выходило на крышу станции, видна была река. Фиак поливала цветы на подоконнике. Клем присел у стола.
— А что с ее письмами?
— Я отношу ей.
— И что она с ними делает?
— Отдает обратно мне. Я управляюсь с теми, с которыми могу, а остальным придется подождать.
— Здесь тепло, — сказал он.
Она не ответила. Он посмотрел на лежащие на столе вещи. Пара купленных в аптеке очков для чтения, дорожный будильник, набор электрических лампочек в целлофановой обертке. И воскресное приложение к газете, напечатавшее, как он знал, его сделанные весной фотографии. Отогнув угол журнала, он бегло пролистал его, не задержавшись на мелькнувшем краешке собственной фотографии.
— Поймают они его? — спросила Фиак, указывая на журнал носиком лейки.
— Кого?
— Того, кто это устроил.
— Рузиндану? Не знаю. Мы его искали. Он сбежал. Полстраны сбежало.
— А не рано вы прекратили его искать?
— А вы бы продолжали?
— Чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Вам, небось, хотелось?
— Конечно.
— Чтобы ткнуть ему в лицо его преступления.
— А Клэр видела эти фотографии?
— Это ее журнал.
Он кивнул.
— Я постелю вам, — опуская лейку, сказала Фиак.
— Не нужно, — сказал Клем. — Если вы покажете мне, где что лежит…
— Она попросила меня.
— Правда?
— Правда.
Клем прошел за ней в прихожую. Он был бы не прочь повздорить с Фиак, устроить склоку, поставить ее на место, чтобы она поняла, что семейному терпению есть пределы. Прислонившись к дверному косяку сестриной комнаты — единственной спальни в квартире, он наблюдал за Фиак, склонившейся над стоявшим в ногах кровати оцинкованным сундуком с постельным бельем. Что привлекало Клэр к этой крупной, мужеподобной женщине? Ее верность? Или осознание того, что и она была в какой-то мере жертвой и тоже жила, как сама Клэр, как Одетта Семугеши, как будет жить та испанская девушка, навеки не в силах побороть прошлое несчастье?
— Я сам могу застелить кровать, — сказал он.
— В вашем возрасте на это можно рассчитывать, — сказала она.
Выпрямившись, с простынями в руках она прошла мимо него в гостиную. Его явно не приглашали занять ложе сестры, но Клем еще немного побыл в спальне — встав в центре комнаты, он попытался «прочесть» ее взглядом. Она располагалась в глубине дома, вдали от кухни, и выходила на северо-восток; из узкого окна струился серовато-белесый, как прозрачная холодная вода, свет. С хромированной перекладины элегантного шифоньера свешивалось на плечиках около дюжины платьев; на нижних полках, носками к стенке, стояло шесть пар туфель. На каминной полке, под серебристым утренним или вечерним акварельным пейзажем, выстроились в ряд морские раковины. На туалетном столике не было ничего интересного: шпильки, склянка с духами, баночка крема для рук, упаковка капсул масла энотеры. Он отодвинул боковую дверцу шифоньера и обнаружил фотографию Норы в очках, как у Чан Кайши. Но самым интересным, самым интригующим в комнате был подбитый алым шелком халат, многочисленными складками повисший на крючке с обратной стороны двери. Клем прикоснулся к нему пальцами; от материала исходило совершенно особое ощущение прохлады. Пожалуй, стоит ползарплаты. Может, подарок? Такую вещь, подумал он, не дарят женщине, расставшейся с чувственными наслаждениями.
— Вы здесь закончили? — спросила Фиак.
«Может, мне не разрешается спать на этой кровати, потому что здесь спит Фиак, — думал он, — Уж не это ли предполагал доктор Босуэлл? На что он намекал?»
— А зачем столько лампочек? — спросил он.
Рядом с настольной лампой в картонных коробочках лежало еще четыре.
— Бороться с темнотой, — сказала Фиак. — Перед своим отъездом она уже не могла ее переносить.
— Не могла?
— Боялась.
— Боялась темноты?
— Того, что из нее могло появиться.
— А что могло появиться?
— Это лучше у нее спросить.
— А вы, значит, не знаете?
Она фыркнула.
— У нас нет секретов друг от друга.
— Но вы не считаете, что семье это нужно знать?
— Вы имеете в виду — вам и вашему отцу?
— А почему окна запечатаны?
— По той же причине.
— Из-за того, что она боялась?
— Из-за болезни! Вы что, ничего не поняли?