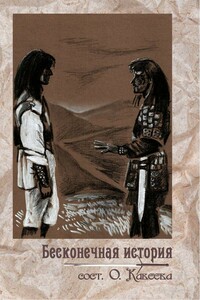1943 год, Ленинград, СССР
Здесь такой климат, что и летом озноб. Уж на что неласковы родные горы Шотландии, но здешний ноябрь — это депрессия в чистом виде. Такой ветер, что не спасает даже добротная шинель. Такая сырость, что уныние поселяется в самом сердце.
Но надежда — вот воистину бессмертная сущность — делает лица людей тёплыми. Черепа, обтянутые кожей и тонким слоем надежды. Без неё лица были бы просто страшные, как худшая из смертей. Дункан умирал от голода, он знает, о чём говорит. Он бывал в чумных городах, он видел.
Те, кто пришли из-за блокадной черты, румянцем тоже не пышут: окопы — не курорт, но на фоне местных они кажутся могучими здоровяками.
Блокада прорвана, но ещё не до конца снята.
— Ну что, товарищ Мак, хорошая работёнка?
Сержант Сучков горд. Работёнка и верно сделана на совесть, о чём Дункан незамедлительно сообщает. Сержант, которого только-только оттрепало малярией, расплывается в довольной ухмылке.
На скорую руку, но вполне неплохо: полевой госпиталь вселился в наименее разрушенное здание на этой улице и уже принимает пациентов. Всей канителью с заселением, налаживанием снабжения, какого-то бытового минимума, не говоря уже о медикаментах, руководил жёлтый от малярии сержант.
Дункан считает, что на родине акул капитализма сержант сделал бы лихую карьеру на деловой смётке и расторопности, но здесь не Америка. Здесь… здесь недавно прорвали блокаду. Улицы ещё пахнут голодом. Дункан не знает, сколько лет будет выветриваться эта вонь.
— А вот ещё ваш, — сержант тычет пальцем вглубь теперь уже больничного двора.
— Наш? — уточняет Дункан.
— Ну, из союзничков. И тоже по-русски болтает неплохо.
«Союзничков» — англичан, французов, норвежцев — здесь немного. В основном — в небе, «Люфтваффе» гоняют. Но и по грешной земле кое-кто умудрился дойти.
(Господи всеблагой, какая же была авантюра с этим добровольческим отрядом имени Взятия Бастилии! Только дремучий военный бардак и название в большевистском вкусе позволило им добраться аж до здешних болот…)
Дункан всматривается.
Длинная сутулая фигура в шинели. Кепи, из-под которого торчат сальные лохмы. Большой чемодан у ноги.
«Его» поворачивается лицом, и Дункан вздрагивает, хотя узнаёт за секунду до этого движения. Будто и не прошло без малого пятьдесят лет. Впрочем, ничего удивительного: мистер Куинн изменился не больше самого Маклауда.
— Да, на рожу не сахар, — по-своему понимает его сержант. — И чудак к тому же. Но дело своё знает.
— А какое его дело? — голос деревянный, скрипучий. Он уже рассмотрел предмет, висящий на шее «союзничка», сносно болтающего по-русски.
— Запечатлевает преступления фашизма, товарищ Мак, — серьёзно отвечает сержант. — Чтобы ни одна мелочь не ускользнула. Вроде как для международного военного трибунала. Херня этот трибунал, давить их просто надо, но память терять нельзя. Нужно, чтобы и дети наши, и правнуки это видели. Нельзя ни прощать, ни забывать. Он фотографии из концлагерей показывал… Только давить, до последней гниды.
Сержант звенит от ненависти.
Дункан слышал о концлагерях. О том, что в них происходит на самом деле. Только слухи, но он верит им, а не речам Геббельса. Дункан знает, что добыть настоящие, материальные свидетельства творящихся там преступлений невозможно. Они с коллегами по партизанскому движению пытались. Но он не удивлён.
Мистер Куинн, безусловно, способен и не на такое. Дункан и сам понимает очень смутно, на что способен мистер Куинн. Но ему страшно.
— А почему чудак?
— Просили сделать нам с ребятами снимочек коллективный, а он ни в какую. Будто ему пары кадров жалко. А плёнки у него на самом деле — завались, притом самой лучшей. И фотокамера шикарная. Ну ничего, Жулин спиртяжки достал, уговорим.
— Знаете, сержант, — медленно говорит Дункан, — не стоит этого делать.