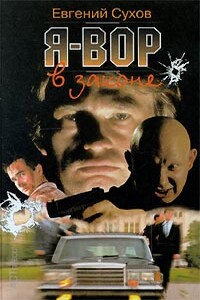— Вот оно как!.. — глубоко вздохнул князь. Их судьбы были похожи. Оба они скатывались низко, чтобы потом возвыситься вновь. И если Василий пострадал от брата, то Улу-Мухаммеда убил собственный сын.
— Что было дальше, рассказывай!
— Хотел и братьев своих убить, чтобы самому на ханстве хозяйничать, да верные люди предупредили Касима и Якуба, чтобы не поддавались на посулы Махмуда, а ехали от него подалее. В Москве они сейчас, у тебя, государь.
— Хорошо. Что ещё есть?
— Посол из Казани прибыл, тебя хочет видеть.
— Зовите его, бояре, — распорядился великий князь.
Василий услышал, как распахнулась входная дверь и вслед за этим кто-то уверенно приблизился к трону. Стоявший подле государя Прошка Пришелец шепнул в самое ухо:
— Мурза это татаров... В горницу к тебе вошёл, словно сам здесь хозяин. Поклон едва отвесил, будто ты у него, государь, чего просить удумал. Улу-Мухаммед был жив, так послы у него куда почтительнее были.
— Эмир Василий, — начал мурза, — теперь в Казани новый хан, сын Улу-Мухаммеда, Махмуд! Он велел тебе сказать, чтобы ты ясак не задерживал и платил так же исправно, как это было при его великом отце! Если всё будет по-старому, жить станем в мире, если же ослушаешься его, приведём войско на твои земли, города сожжём, а тебя вместе с твоими людьми возьмём в полон!
Василий помолчал, а потом спокойно заговорил:
— Мне уже на этом свете нечего больше бояться, мурза... Передай хану: крест я целовал, что ясак буду платить исправно. Пусть не тревожится об этом Махмуд.
— Ещё велел сказать казанский хан, на твоих землях прячутся два его брата: Касим и Якуб. Он велел тебе схватить их и в Казань доставить!
— Вот здесь погорячился казанский хан! Царевичи Касим и Якуб гости мои, — проявил твёрдость великий князь. — И не подобает мне их со двора выставлять. Было время, я был гостем у Мухаммеда, так почему его сыновья не могут погостить у великого московского князя? Так и передай мои слова хану Махмуду.
Мурза ушёл, а бояре зашептались вновь.
— О чём шепчетесь, бояре?
— Государь, — услышал Василий голос Прохора, — тут мы от верных людей наших слышали, что Дмитрий Шемяка крестное целование попрал. Ничего его, супостата, удержать не может! С Ордой и с казанцами сносится. Зло против тебя чинит.
— Так...
— Ты бы не верил ему более, князь. А то доверчив, как ребёнок, оттого и видения лишился.
Год прошёл, как простил измену Василий своим братьям: Дмитрию Шемяке и Ивану Можайскому. Ведь только раны стали рубцеваться у ратников; облегчённо вздохнули крестьяне — никто не отрывал их от сохи, и, радуясь предоставленной свободе, засыпали они в амбары уродившееся зерно.
Знаменит год был и тем, что народилось в эту пору, как никогда, много мальчиков, и дружный детский плач тревожил успокоившиеся до поры сёла. А через некоторое время эта детвора, босоногая и безмятежная, ступила бы на прохладную землю, набирая от неё живительную силу.
Не нужно быть зрячим, чтобы разглядеть, как отдыхают от войны отроки, сполна наслаждаясь установившимся покоем; как любятся истосковавшиеся молодожёны; с какой радостью жёны дарят мужьям детишек.
Радость не бывает без печали, и старики, поглядывая на родившуюся детвору, вздыхали:
— Отроков больно много... давно такого не бывало. Видать, быть войне...
— Придётся растить мальцов бабам без мужниной опеки, — подхватывали другие. И ещё тяжелее, ещё печальнее вздыхали: — Народилось ныне много сирот!
Василий Васильевич знал о том, что Дмитрий Шемяка уже не однажды, против его воли, сносился с Ордой, подговаривая хана выступить против Москвы. Где бы ни находился Дмитрий, всюду возводил крамолы, подговаривая князей учинить против московского князя смуту. Угличский князь уже не раз ездил в мятежный Великий Новгород, величал себя там не иначе как великим московским князем. И упрекал Василия Васильевича во всех грехах: отдал он, дескать, Москву на поругание, а христиан унизил перед басурманами. Не возвращал Шемяка награбленную в Москве казну; держал у себя ордынских послов и искал расположения Кичи-Мухаммеда. Но и на этом не успокаивался Дмитрий Юрьевич: отказавшись от власти над Вяткой, он что ни день посылал туда гонцов, мутил народ, просил заступничества от притеснений московского князя. И чаша терпения, наполненная до самого верха, грозила расплескаться.