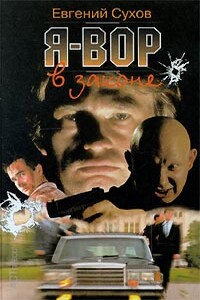В окнах засветились свечи, от звона колоколов просыпалась челядь.
Постельничим у Шемяки был Иван Ушатый, и князь громко позвал боярина:
— Ивашка!.. Ивашка, пёс ты смердячий! Куда запропастился! Не слышишь, как государь тебя кличет!
В горницу заглянул заспанный боярин. Было видно, что вчерашнее застолье не прошло для Ушатого бесследно: глаз не видать, а лицо — что свёкла печёная.
— Звал, государь? — спросил боярин.
— Иди во двор, узнай, кого хоронят. И чтобы быстро! Вот ещё что... пива принеси, в горле першит.
Ушатый ушёл и вернулся с огромным, в виде утки, ковшом. Борода и усы мокрые, видать, приложился сам, прежде чем государю поднести. Ладно уж, вон как рожу скривило, авось поправится.
Великий князь пил долго, опасаясь пролить на белую сорочку хоть каплю. Кадык его судорожно двигался, когда делал большие глотки. Наконец насытился князь, глянул на Ушатого:
— Что там?
— Да как тебе сказать, государь... Монах-то, что Ваське глаза колол... помер!
— Вот как! — выдохнул Шемяка, холодея.
— В эту же ночь и прибрал его Господь. К заутрене его ждали, как обычно. А его нет, не случалось прежде такого. Игумен, сказывают, послал в келью к Иннокентию, а он за столом сидит, будто Божий образ созерцает. За плечо взяли, а тот на бок и завалился. Вот и бьют колокола по нём. На монастырском кладбище хоронят.
Иван Ушатый видел, как сошёл с великого князя хмель, лицо его сделалось пунцовым. «Неужто гнев Божий? Нет! За меня Бог! За правду Васька пострадал. Всех наказать. Бояр московских, что не пожелают мне клятву на верность дать, живота лишить! Княгиню Софью отослать в Чухлому. Дерзка не в меру. А Ваську с женой в Углич! Пусть в моей отчине у бояр под присмотром будет...»
За великой княгиней Софьей Витовтовной пришли рано утром. Бояре уверенно ступили в терем. Так и вошли все разом на женскую половину. Всем вместе гнев великой княгини выдерживать легче. Крутая Софья в речах.
— За тобой мы пришли, Софья Витовтовна. — Как ни дерзок был боярин Ушатый, но перед княгиней великой и он оробел. — Дмитрий Юрьевич, великий князь московский, в Чухлому в монастырь велел тебя доставить.
Вопреки ожиданию, Софья встретила гостей покорно — бояре не услышали бранных слов.
— Великой княгиней я была, великой княгиней и останусь. И в Чухлому в венце поеду.
Согласилась больно быстро княгиня, очевидно, строптивость для следующего раза приберегла.
— Хорошо, княгиня... великая, — за всех решил Иван Ушатый, — быть по-твоему.
— Сына я своего хочу повидать и государя моего, Василия Васильевича.
Так оно и есть, не покорилась княгиня. Стало ясно Ивану Ушатому, что не пойдёт со двора вдова, если не дать ей повидаться с сыном. Разве что силком повязать да на сани уложить. Но кто же станет воевать с великой княгиней? Кто срам на свою голову захочет принять?
Иван Ушатый согласился ещё раз:
— Будь по-твоему, государыня.
Великую княгиню отвели ко двору Шемяки, где под присмотром стражи томился печальник Василий. Он сидел в самом углу на слежавшейся охапке сена, ярко пылали свечи, но он их не видал. Василий Васильевич был слеп!
Великая княгиня Софья долго не могла в этом старце узнать своего сына. Василий сидел неподвижно, слегка склонив голову, казалось, он внимательно разглядывал носки своих сапог. А когда наконец материнское сердце подсказало ей, что страдалец, безучастно сидевший в углу, не кто иной, как её сын, она закричала в ужасе:
— Что ты с сыном моим сделал?! Будь ты проклят, Дмитрий! Увидит Господь ещё наши страдания! Покарает он тебя!
Василий Васильевич услышал голос матери и посмотрел на неё пустыми глазами.
— Матушка, где же ты? Дай мне дотронуться до одежд твоих. Дай мне силы вынести всё это!
Великая княгиня подошла к сыну, а Василий беспомощно, как это делал в раннем возрасте, сделал шажок, затем другой. Руки выставлены вперёд. Обрубки пальцев коснулись лица матери. На розовых, едва заросших рубцах остался влажный след, и Василий, как мог, утешал мать:
— Ничего, матушка, ничего... Ведь и так живут люди. Грешен я перед народом. Грешен я перед братьями моими, вот Господь и покарал меня. Братьев я не любил, а стало быть, и Бога не любил. За это и наказание получил. Ладно, матушка, не горюй. Схиму приму и до конца дней своих грехи замаливать стану.