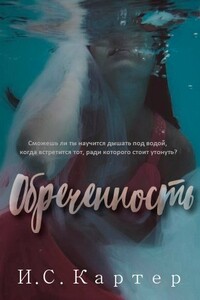— Уходи, — отстранилась Маняша.
— Без тебя не уйду.
— Не вытащишь, Серафима, не сдюжишь. Я-то всю силу свою истратила, а ты вернуться еще успеешь.
— Ты меня спасла, — прошептала я сквозь слезы. — На меня силу потратила, теперь мой черед.
Я посмотрела на свое запястье, ниточка от него тянулась аршина на два, растворяясь в воздухе.
— Пойдем. — Другой рукой я взяла Маняшину ладонь. — Сейчас мы с тобою поганую навью силу используем и в наш мир вернемся.
— Может, я не желаю!
Я остановилась:
— Объясни.
Никогда ни до ни после я не видела свою Неелову столь смущенной. Она хотела вот так вот, на пике из жизни уйти, героиней в памяти людской остаться, величайшей ведьмой. Раньше я горделивых порывов за Маняшей не замечала, даже усомнилась на мгновение, не навья ли меня сызнова морочит. Но, когда объяснения стали путаными и вовсе нелепыми, а я, разгневавшись, топнула ногой, дурочка призналась. Дело было в князе Кошкине. Маняша любила его, любым, хоть старцем, хоть молодцеватым гусаром, потому что любят не тело, а то, что в нем. А вот быть рядом с любимым она могла лишь в роли сиделки Лулу.
— Мы уехать хотели, — смахнула она слезу, — век наш доживать. Со мною он лет с десяток еще протянул бы. А теперь что? Ты ведь все обратно переиграешь, я тебя, Серафима, знаю, у тебя до справедливости просто зуд какой-то образовывается.
— Может, я и не смогу переиграть, — принялась я утешать, — может, не сдюжу.
— Ты-то?
Гнев, чистый, яркий, застил мне глаза.
— Трусиха! — закричала я. — Нелепая жалкая трусиха! Версты скрадывать она не боялась, и в самом гнезде навском поселиться, а тут страх напал. Даже если не сложится у тебя с Анатолем в яви, если расстанетесь, жизнь на любви не заканчивается!
— Я раньше так же думала, но то раньше…
— Хорошо, ежели так, отчего же ты своего любимого из этой задачки устранила? Ты у князя спросила, желает ли он твоей жертвы? Может, он за тобой уйдет?
Я запнулась, поняв с ошеломляющей ясностью, что именно на это она и надеется, что здесь, у грани, Маняша Неелова любимого поджидает, чтоб вместе, чтоб рука к руке в неизвестность отправиться.
— Это грех, — проговорила я серьезно. — Самоубийство, Мария Анисьевна, смертный грех, а ты двойной на себя взгромоздишь, и за себя, и за Анатоля. Я тебе этого позволить никак не могу.
Схватив ее за руку с такой силой, что пальцы хрустнули, я потянула:
— К лешему мадемуазель Мерло, ты в свое тело вернешься. Молчи, я все решила. Я пока еще твоя хозяйка, у меня и контракт про это имеется, так что перечить не смей.
Луг истаял маревом, пространство вокруг превратилось в пульсирующую бездну, и мы шли сквозь нее, как заблудившиеся в лесу детишки.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,
в коей заканчивается история барышни Абызовой, умницы, красавицы и папиной дочки
Затѣмъ, остается лишь слѣдовать правиламъ этикета и свѣтской жизни, чтобы существовать въ спокойствiи и довольстве, дѣлая окружающих насъ такими же счастливыми, какъ мы сами.
Жизнь в свете, дома и при дворе. Правила этикета, предназначенные для высших слоев России.
1890 г., Санкт-Петербург
Ночь с первого на второе сеченя запомнится обитателям солиднейшей Банковской улицы надолго. Эдакой аберрации здесь доселе не случалось.
На исходе восьмого вечернего часа в здании, где располагался «Сохранный господ Адлера и Робинзона коммерческий банк», повылетали все до одного стекла, а из распахнувшейся двери повалил дым. Жители соседних домов подготовились к худшему, кликнули городовых и пожарную команду. Но прежде пожарных у банковского подъезда появилась группа вооруженных всадников. Дым к тому времени почти развеялся, поэтому обыватели бросились по домам, демонстрируя нелишнюю в этих обстоятельствах осторожность. Сквозь плотно прикрытие ставни они могли слышать звуки нешуточной драки, свистки городовых и даже — о ужас! — беспорядочную пальбу.
Когда выстрелы стихли, самые смелые из соседей, выглядывающие в окна либо вышедшие на двор, лицезрели слаженную работу столичных охранных служб. Наутро из газет они узнали, что наблюдали совместную операцию разбойного, тайного и чародейского приказов по поимке и арестовыванию разбойной банды залетных головорезов из Жечи.