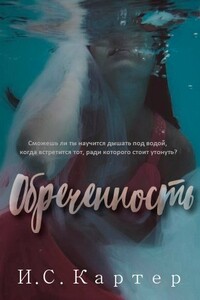И они ушли.
А я осталась. И плакала все время, пока заскучавшие горничные не нашли меня в выстуженном церковном дворике, и пока они везли меня на извозчике, и пока мимо меня проплывали мокошьградские нарядные домики и голые деревья.
— Кто посмел? — Теплый мужской голос раздался очень близко, и сквозь слезы я увидела встревоженное лицо Ивана.
Он сидел рядом с мной, коляска стояла у фонарного столба.
— Ты болван, — всхлипнула я.
— Почему ты рыдаешь?
— Потому что, — начала я с завыванием, но продолжить мне не дали.
— Барышню Абызову я забираю, — строго сказал Зорин Мартам. — Наталье Наумовне передайте, что по служебной надобности и что верну ее домой в целости и сохранности, когда надобность отпадет.
Он спрыгнул на мостовую и потянул меня за собой:
— Давай, Фима, не упрямься. Юлий Францевич с тобою желает побеседовать.
— На сторону канцлера переметнулся, ирод?
— Ирод, ирод, — бормотал он успокаивающе, снося удары. — Огнем еще можешь шибануть, я постараюсь не морщиться.
— Испепелю мерзавца.
— Обязательно. Сейчас покушаешь, в себя придешь и начнешь пепелить…
Ватные ноги меня не слушались, пошатываясь и не видя дороги, я брела, буквально повиснув на спутнике.
— Митрофан, — командовал он, — метнись к шефу, объясни ситуацию. Нет, лекарь здесь не поможет. Я разберусь.
Воздух из морозного стал теплым и вязким, я споткнулась, оказалась в мужских руках.
— Ваше высокородие! — блеял кто-то мне не видный.
— Стол нам организуй, человече. Бульону обязательно добудь.
Мы в ресторане? Однако вскоре я оказалась лежащей на кровати, а его высокородие со сноровкой больничной сиделки снимал мою шубу и расшнуровывал ботильоны.
— Ножка какая маленькая.
Хихикнув от щекотки, я лягнула Зорина.
— Ну хоть рыдать перестала.
— Слезы кончились, — доверчиво сказал я и шмыгнула носом. — Все меня бросили. Ты и Маняша. И Попович, кошка рыжая, заругала. Потому что я балованная и капризная, и только о себе думаю…
Жалобные мои стоны не мешали чародею меня раздевать. Он по одной доставал из волос шпильки, после принявшись массировать мне кожу головы твердыми пальцами.
— Эк тебя, душенька, разломало.
— Маняша…
— Помолчи! Ты что, океаны нынче кипятила, бешеная?
— Ты, Зорин, определись, мне молчать или про географию беседовать?
— Беседуй. — Приподняв меня за плечи и усадив, чародей один за одним принялся расстегивать крючочки платья. Когда оно с шуршанием стало сползать, я забилась, как выброшенная на берег рыбешка.
— Глупостей не воображай, — разозлился Иван. — Солнечное сплетение обнажить придется, у нас там одно из средоточий силы.
— Болван ты все-таки, — простонала я, беспомощно наблюдая, как поднимает он с покрывала красный мак, который я, дура сентиментальная, прятала у сердца. — Ну радуйся, ирод, моему унижению! Похохочи над влюбленной дурой.
— Я бы, Фима, похохотал, — Зорин цветок аккуратно отложил и бестрепетно потянул мою сорочку, снимая ее через голову, — только перед собою ее не вижу. Это я некоей барышне в любви признавался, а она, кроме страсти, ничего мне предложить не хотела.
Я лежала на постели по пояс обнаженная и желала немедленно провалиться сквозь землю от стыда.
— Теперь молчи, — попросил чародей и положил ладони мне на живот.
Тело пронзило такой острой неожиданной болью, что мир превратился в раскаленный белый свет, в высокий звук, в варенье, в бобра. И я заорала высоко и раскаленно, а когда закончила, Иван лег рядышком и спросил:
— Почему бобер?
— Потому что ты болван. — Я повернула голову и нашла губами его губы. — А я тебя люблю.
Ощущать прикосновения мужских рук обнаженной кожей было приятно и очень остро, груди терлись о ткань мундира, напрягались, становясь еще чувствительнее. Я со стоном отстранилась:
— Продолжение получишь после свадьбы.
— После чьей?
— После нашей, — сокрушенно покачала я головой. — Или ты думаешь, я тебя теперь Наталье Наумовне уступлю?
Иван Иванович закинул руки за голову, уставился в потолок:
— Не уступай, она меня быстро умучит. С тобою, конечно, тоже спокойной жизни мне не светит, но она хоть в удовольствие будет.
Это «хоть» мне вообще не понравилось. От обиды я быстро натянула через голову сорочку.