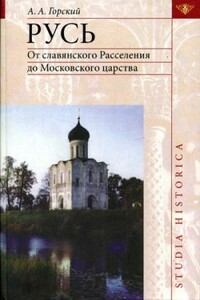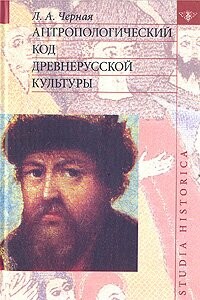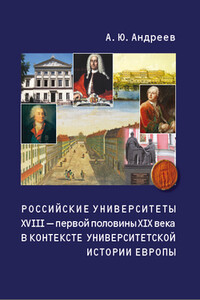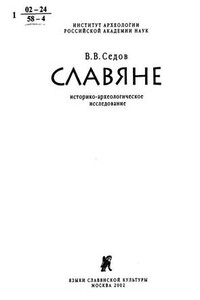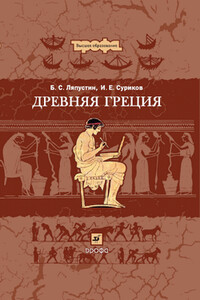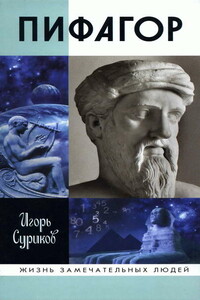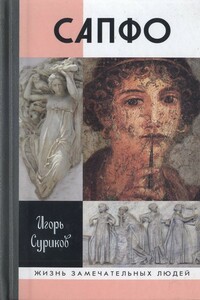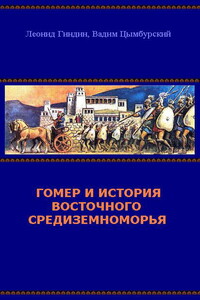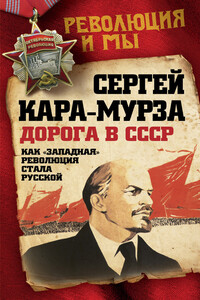Очерки об историописании в классической Греции - страница 41
Несколько сложнее обстоит дело в случае с Ксенофонтом — еще одним продолжателем Фукидида. Ксенофонт получил не риторическое, а хорошее философское образование (у самого Сократа!), кроме того, как и Фукидид, он был не только писателем, но и практическим деятелем — политиком и полководцем. Соответственно, ему временами лучше удается удержать фукидидовский дух. Но по большей части его повествование также выливается в занимательный рассказ, где вместо научного осмысления событий на первый план выдвигается их этическая трактовка, целям которой служат, помимо прочего, творимые Ксенофонтом мифы. Особенно ясно это видно на примере принадлежащего ему трактата «Киропедия»[255]. По форме это вроде бы историческое произведение, предметом которого является возникновение мировой державы Ахеменидов. Однако, по справедливому замечанию Э. Д. Фролова, «исторический материал, с первого взгляда столь богатый, на деле исполнял служебную роль условного фона… Персидская история как таковая его (Ксенофонта. — И.С.) не интересовала. Эта история была для него — еще больше, чем новая европейская для Александра Дюма, — лишь стеной, на которую он вешал свою картину». «Картиной» же этой была разрабатывавшаяся на квазиисторическом персидском фоне социально-политическая утопия.
Еще одна группа представителей позднеклассической и раннеэллинистической историографии — аттидографы (афинские историки — «краеведы» и антиквары, писавшие о прошлом родного полиса)[256], к числу которых принадлежат Андротион (тоже ученик Исократа), Клидем, Фанодем, Филохор (все они были экзегетами, то есть уполномоченными государством толкователями оракулов и прорицаний, а также занимали другие религиозные должности) и др.[257] Аттидографы в своих сочинениях, носивших одинаковое название «Аттида» (от «Аттика»), концентрировались в основном на изложении фактов, что делает эти сочинения (к сожалению, дошедшие до нашего времени лишь во фрагментах) ценным историческим источником. Однако, следует подчеркнуть, источник этот в гораздо большей степени содержит сведения о разного рода верованиях, локальных мифах и связанных с ними культах, нежели о конкретной политической истории. Такое положение дел вызвано несколькими причинами. Прежде всего, все аттидографы сознательно сосредоточивали свое внимание на древнейшем, легендарном периоде истории Аттики и Афин. А так как сколько-нибудь достоверной информацией о столь далеком прошлом они, естественно, не располагали, то история в их трудах сплошь и рядом перемешивалась с мифом, и более того, попросту мифологизировалась[258]: реальные исторические события облекались в ткань мифа и начинали жить новой жизнью, уже всецело подчиняясь законам мифотворчества. Отсюда вытекал и общий повышенный интерес этих историков к мифологическим (особенно этиологическим) сюжетам, чему способствовал, кстати, и статус создателей «Аттид» как лиц, напрямую связанных с религиозной жизнью полиса. Во всяком случае, не вызывает сомнений, что аттидографы примыкают скорее к «геродотовской», чем к «фукидидовской» линии древнегреческой историографии.
Отмеченные тенденции получают еще более полное воплощение в результате походов Александра Македонского, в ходе которых греки лицом к лицу встретились с издавна будоражившим их воображение миром Востока. Собственно говоря, даже историки классической эпохи (тот же Геродот, например), когда они в той или иной связи заговаривали о восточных странах, давали полный простор таинственному и чудесному. И чем дальше к восходу солнца уносилось повествование этих авторов, тем фантастичнее становились рисуемые ими картины. Скажем, о делах лидийских, малоазийских «отец истории» рассказывает, в общем-то, вполне реалистично. Но переходит к Египту, Вавилонии, Мидии — областям более отдаленным, — и роль фольклорных элементов значительно возрастает. Касается, наконец, таких «крайних» регионов ойкумены, как Индия или Эфиопия, — и появляются муравьи величиной с собаку или крылатые змеи