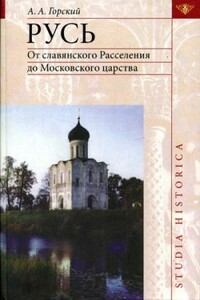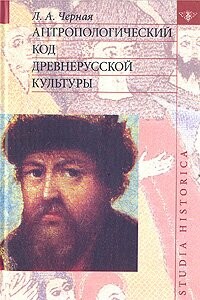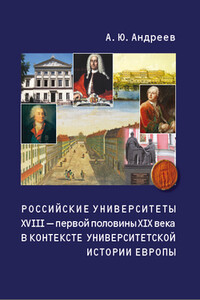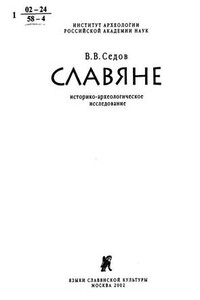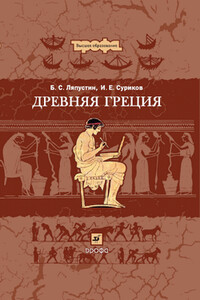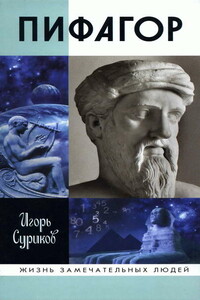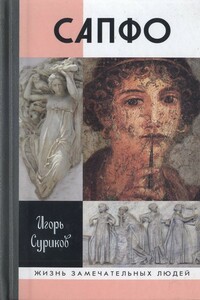Очерки об историописании в классической Греции - страница 38
Однако, если поставить вопрос о границах рационализма у Гекатея, сразу выясняется ряд любопытных обстоятельств. Так, милетский историк не может примириться с мифом об адском псе Кербере, кажущимся ему несогласным с доводами разума, и превращает Кербера в огромную ядовитую змею, якобы обитавшую некогда на мысе Тенар (FGrHist. 1 F27). Но, с другой стороны, он не видит ничего удивительного, например, в мифе, согласно которому собака одного из героев родила… виноградную лозу (FGrHist. 1 F15). Таким образом, чудесное в картине мира Гекатея отнюдь не исчезает; скорее лишь несколько уменьшается его количество. О том же свидетельствует и еще один фрагмент (FGrHist. 1 F19), в котором Гекатей, полемизируя с Гесиодом, так излагает миф о Данаидах и Египтиадах: «Сам Египет в Аргос не пришел, а только сыновья его, которых, как Гесиод сочинил, было пятьдесят, а как по-моему, то не было и двадцати». Иными словами, логографы, в том числе и Гекатей, ничтоже сумняшеся вносили в своих произведениях изменения в традиционные мифы, причем, похоже, новые версии попросту придумывали сами, исходя из соображений «здравого смысла». Если это и рационализм, то мало в чем схожий с тем типом рационализма, который привычен нам и считается научным.
Не говорим уже о том, что Гекатей ни в коей мере не отрицал существования олимпийских богов и даже возводил к ним свою родословную, педантично подсчитывая поколения (FGrHist. 1 F300). А ведь в это самое время философ и поэт Ксенофан Колофонский, современник и почти земляк Гекатея, проповедовал идеи, представлявшие собой что-то среднее между пантеизмом и монотеизмом, и подвергал решительному осмеянию антропоморфизм народных верований[234]. Вряд ли стоит видеть в подобном воззрении признак «наивности» Гекатея, который мог бы служить основанием для пренебрежительного отношения к нему как ученому. Дело, как нам представляется, несколько в ином. Великий логограф в своем подходе к родовым преданиям опирался на вековые традиции, сложившиеся в среде греческой аристократии, к которой он принадлежал. Божественное происхождение знати в глазах отнюдь не только ее самой, но и рядовых граждан, было чем-то само собой разумеющимся, фактом, не нуждающимся в доказательствах и не подверженным каким бы то ни было сомнениям.
Как бы то ни было, наши суждения о взглядах Гекатея и других логографов могут быть в известной степени лишь фрагментарными и гипотетичными, поскольку ни один из трудов этих историков не сохранился, и все они известны лишь по цитатам у позднейших авторов. Первым историческим трудом, который полностью находится в распоряжении современной науки, является «История» Геродота Галикарнасского. В сущности, именно Геродот вполне справедливо носит гордый титул «отца истории» (данный ему уже Цицероном), и о его сочинении представляется необходимым и возможным сказать несколько подробнее.
Всё мировоззрение Геродота — и это не может не броситься в глаза каждому, кто открывает его книгу — буквально пронизано иррациональными, в особенности религиозными, элементами и категориями; они фигурируют в «Истории» повсеместно[235]. Разного рода оракулы, знамения, представления о воле богов, судьбе и т. п. для Геродота были настолько актуальны, что иной раз ставится даже вопрос: не представляет ли собой его творчество «шаг назад» по сравнению с логографами? О последних слишком мало известно, чтобы можно было делать какие-либо категоричные выводы, но, во всяком случае, несомненно, что в историческом труде Геродота можно обнаружить целый ряд весьма архаичных идей.
Одна из этих идей связана с так называемой «завистью богов» (φθόνος θεών)[236] и наиболее отчетливо выражена во «вставной новелле» о Солоне и Крезе. Геродот вкладывает в уста афинскому мудрецу слова: «Всякое божество завистливо и вызывает у людей тревоги» (Herod. I. 32)[237]. Та же мысль не менее эксплицитно проявляется и в других местах произведения этого историка. Так, гибель самосского тирана Поликрата он относит на счет той же «зависти богов» к человеку, достигшему «чрезмерного» успеха и благополучия. В рассказе о Греко-персидских войнах — а это, как известно, основной сюжетный костяк геродотовского повествования — представление о «зависти богов» тоже неоднократно прослеживается.