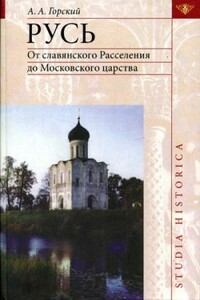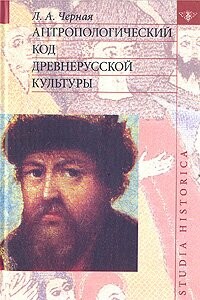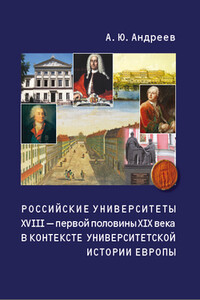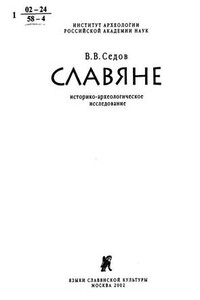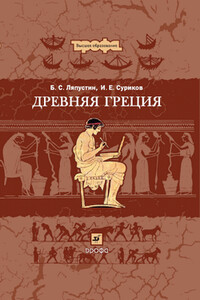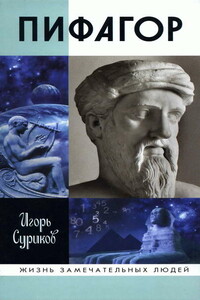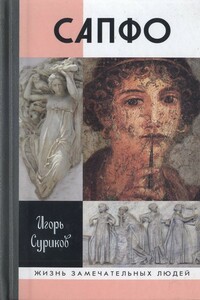Очерки об историописании в классической Греции - страница 34
Но Филохор рассказывает все совершенно по-иному. Минос назначил день состязаний, и ожидали, что Тавр снова всех оставит позади. Мысль эта была ненавистна критянам: они тяготились могуществом Тавра из-за его грубости и вдобавок подозревали его в близости с Пасифаей[204]. Вот почему, когда Тесей попросил решения участвовать в состязаниях, Минос согласился. На Крите было принято, чтобы и женщины смотрели игры, и Ариадну потрясла наружность Тесея и восхитила его победа над всеми соперниками. Радовался и Минос, в особенности — унизительному поражению Тавра; он вернул Тесею подростков и освободил Афины от уплаты дани.
По-своему, ни с кем не схоже, повествует об этих событиях Клидем[205], начинающий весьма издалека. По его словам, среди греков сушествовало общее мнение, что ни одна триера не должна выходить в море, имея на борту сверх пяти человек[206]. Лишь Ясон, начальник «Арго», плавал, очищая море от пиратов. Когда Дедал на небольшом корабле бежал в Афины[207], Минос, вопреки обычаю, пустился в погоню на больших судах, но бурею был занесен в Сицилию и там окончил свои дни. Его сын Девкалион[208], настроенный к афинянам враждебно, потребовал выдать ему Дедала, в противном же случае грозился умертвить заложников, взятых Миносом. Тесей отвечал мягко и сдержанно, оправдывая свой отказ тем, что Дедал — его двоюродный брат и кровный родственник через свою мать Меропу, дочь Эрехтея, а между тем принялся строить корабли как в самой Аттике, но далеко от большой дороги, в Тиметадах, так и в Трезене, с помощью Питфея: он желал сохранить свои планы в тайне. Когда суда были готовы, он двинулся в путь[209]; проводниками ему служили Дедал и критские изгнанники. Ни о чем не подозревавшие критяне решили, что к их берегу подходят дружественные суда, а Тесей, заняв гавань и высадившись, ни минуты не медля устремился к Кноссу, завязал сражение у ворот Лабиринта и убил Девкалиона вместе с его телохранителями[210]. Власть перешла к Ариадне, и Тесей, заключив с нею мир, получил обратно подростков-заложников; так возник дружеский союз между афинянами и критянами, которые поклялись никогда более не начинать войну».
Комментарии мы постарались сделать минимальными; собственно, тексты говорят сами за себя.
Итак, для характеристики специфики древнегреческой традиции историописания парадигма «фундамента» не подходит. Но не вполне вмещается эта традиция (во всяком случае, в хронологических рамках классической эпохи) и в парадигму «кирпичиков», «стройматериала». Если уж оставаться в русле всей этой строительной метафорики, то картина вырисовывается следующая: каждый новый эллинский историк не использовал труды своих предшественников как фундамент для своих построений, но и не разбирал их «по кирпичикам», дабы использовать в качестве «стройматериала», — нет, он делал третье, несколько неожиданное. Он не оставлял от их построек камня на камне, разрушал их, а потом возводил взамен предшествующих свою собственную постройку — «с нуля». Он, в известном смысле, не продолжал дело своих предшественников, а тотально, безапелляционно критиковал и даже попросту отрицал их достижения.
Сам ход развития историописания шел как бы по привычному для античности пути циклизма[211]. Крупнейший «логограф»[212] Гекатей в высшей степени пренебрежительно отзывается о своих предшественниках — мифографах, в свою очередь, Геродот дает не менее пренебрежительную оценку самому Гекатею[213]. Для Фукидида как бы не существует Геродота, хотя они были лично знакомы; Фукидид, правда, в одном месте (I. 21. 1) имплицитно, но довольно узнаваемо критикует «отца истории»[214], но вот имени его не упоминает ни разу.
Далее, для Полибия, в свою очередь, практически не существует ни Геродота, ни Фукидида[215]. Если же этот эллинистический историк и останавливается поподробнее на творчестве кого-либо из своих более ранних коллег (Феопомпа, а особенно часто — Тимея), то лишь для того, чтобы подвергнуть их самым жестоким (и часто несправедливым) нападкам