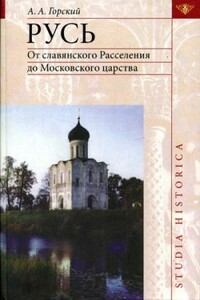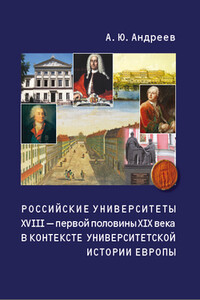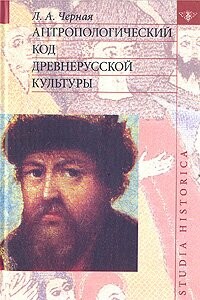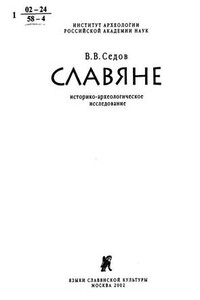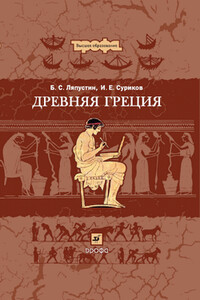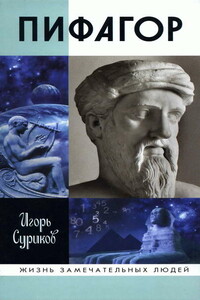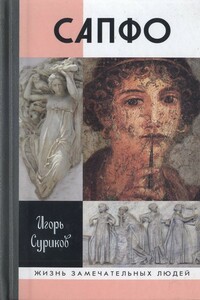Очерки об историописании в классической Греции - страница 26
Это кардинальное различие в мироощущении между двумя величайшими историками древней Эллады уже в античности не ускользнуло от внимания такого тонкого и проницательного знатока литературы, как Дионисий Галикарнасский (Epist. ad Pomp. 774–777 R). Сравнивая Геродота и Фукидида, он, в числе прочего, пишет: «Я упомяну еще об одной черте содержания… — это отношение автора к описываемым событиям. У Геродота оно во всех случаях благожелательное, он радуется успехам и сочувствует при неудачах. У Фукидида же в его отношении к описываемому видна некоторая суровость и язвительность, а также злопамятность… Ведь неудачи своих соотечественников он описывает во всех подробностях, а когда следует сказать об успехах, он или вообще о них не упоминает, или говорит как бы нехотя… Красота Геродота приносит радость, а красота Фукидида вселяет ужас».
Говоря об оптимизме Геродота и пессимизме Фукидида, следует отметить, что перед нами — не просто индивидуальная позиция конкретных авторов, а выражение общего исторического сознания эпохи. На это убедительно указывает тот факт, что в другой области афинского литературного творчества на том же хронологическом отрезке имели место аналогичные перемены. Старший из трех великих аттических трагедиографов — Эсхил, участник и певец Греко-персидских войн, — отличался, как видно из его драм, могучим, непоколебимым оптимизмом. А младшие представители того же жанра — Софокл и особенно Еврипид, чей творческий расцвет пришелся на время Пелопоннесской войны, — несравненно более пессимистичны[159].
Как же получилось, что на протяжении V в. до н. э. древнегреческое (в частности, афинское) историческое сознание проделало такой путь — от «эпического» к «трагическому» типу? Чтобы лучше понять это, необходимо обратиться к проблемам исторического контекста. Следует оговорить: мы отнюдь не считаем, что эволюция ментальных феноменов всегда и всецело происходит под влиянием внешних исторических обстоятельств. В действительности, конечно, каждая отдельная форма духовной жизни изменяется прежде всего по собственным внутренним законам, в соответствии с собственной логикой развития, заключающейся в вырастании проблем внутри традиции и последующем их разрешении имеющимся средствами[160]. Всё это так, но не будем забывать, что историческое сознание — это такая специфическая сфера духовной жизни, предметом которой является именно та самая историческая реальность; перемены в этой последней неизбежно влекут за собой модификацию инструментов ее постижения, то есть субъектно-объектные связи здесь налицо.
А главной исторической реальностью первой половины V в. до н. э., отразившейся в труде Геродота, были, бесспорно, закончившиеся победой эллинов Греко-персидские войны. Совершенно не касаясь здесь этого конфликта с чисто военной точки зрения, мы никак не можем обойти стороной его грандиозный цивилизационный смысл. Ведь, в сущности, именно в ходе столкновения с Персидской державой Ахеменидов, если так можно выразиться, «Греция стала Грецией». Произошло своеобразное «похищение Европы», впервые сформировалось представление об особом, отдельном мире Запада, резко отличающемся от мира Востока и, более того, во всем противостоящем ему. Это представление, как известно, имело колоссальные, и по сей день дающие о себе знать последствия для всей последующей европейской истории: обычные географические ориентации получили культурную и ценностную семантику.
Именно в таком ракурсе написана вся «История» Геродота, о чем ее автор сразу же, с самого начала эксплицитно дает знать читателям (I. 1 sqq.), отмечая как свою главную задачу описание войн между эллинами и варварами (под последними разумеются в первую очередь именно восточные варвары). «Эллины» и «варвары» — в рамках этой бинарной оппозиции вращается вся греческая мысль, начиная с V в. до н. э. Это достаточно известный факт[161], и для нужд нашего исследования, пожалуй, следует лишь подчеркнуть специально вот какой нюанс. Сами понятия «эллин» и «варвар» возникли, разумеется, не в классическую эпоху, а значительно раньше