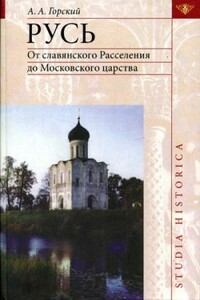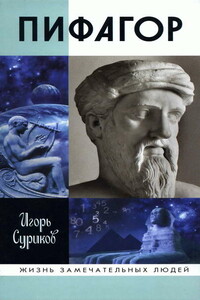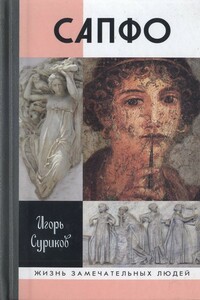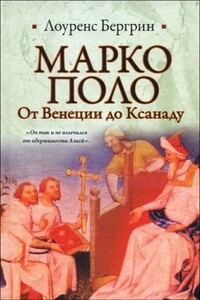Можно сказать, что практически с самого момента «рождения Клио», в V в. до н. э., наметились две противостоящие друг другу принципиальные установки, которые можно охарактеризовать как «диалогичную» и «монологичную». Они-то и проявились соответственно у Геродота и Фукидида. В дальнейшем «геродотовская» и «фукидидовская», «диалогичная» и «монологичная» линии противоборствовали в античной историографии. В частности, «Афинская политая» Аристотеля написана всецело в русле второй из них; не случайно в ней, как и у Фукидида, столь редки ссылки на источники. Совсем иное дело — Плутарх[149]. Он, следуя заветам Геродота[150], «передает все, что рассказывают», даже если он со многим и не согласен. Херонейский биограф очень любит, разбирая какой-нибудь вопрос, сталкивать друг с другом две (или более) противоречащие друг другу трактовки, обнаруживаемые им в предшествующей традиции. При этом чаще всего сам он не делает однозначного выбора в пользу одной из версий, предоставляя такой выбор читателю[151]. Плутарх принципиально не догматичен, его стиль проникнут «диалогической» установкой (здесь, между прочим, еще и влияние метода Сократа, который — через труды Платона — оказал определяющее воздействие на весь склад плутархова мышления)[152]. И эта черта — не только одна из самых импонирующих в его творчестве, но еще и одна из особенно коррелирующих с наиболее передовыми ныне методиками исторической науки[153]. Парадоксальным образом Геродот и Плутарх оказываются близкими и современными нам по своим подходам.
Труд Геродота можно назвать открытой текстовой структурой, а труд Фукидида — закрытой. И в этом отношении опять же напрашивается сравнение соответственно с эпосом и драмой. Памятник эпического жанра принципиально не замкнут, он имеет тенденцию к постоянному разрастанию, причем как «вовне», так и «внутри себя» — посредством вставок, делавшихся новыми и новыми поколениями аэдов[154]. Что же касается драм, особенно трагедий, то их жанр характеризуется, как известно, чрезвычайно стройной композицией, в которой нельзя ничего «ни прибавить, ни убавить».
Различно и отношение ко времени в произведениях двух великих историков. У Геродота оно тоже «эпично»: этот автор мыслит широкими временными категориями, живет в мире веков и десятилетий, а не лет. Скрупулезно точные, тем более аргументированно точные датировки у него трудно найти[155]. Фукидид и здесь являет собой полную противоположность: рассказ о Пелопоннесской войне строго разбит у него по годам, начало каждой очередной кампании у него четко фиксируется во времени. Порой хронологическая точность достигает уровня таких малых промежутков, как несколько дней[156].
И еще один небезынтересный нюанс нам представляется уместным отметить. В античной традиции Гераклита называли «плачущим философом», а Демокрита — «смеющимся философом». К историкам, насколько нам известно, подобные эпитеты не прилагались. Однако если попробовать охарактеризовать с их помощью двух крупнейших представителей историографии V в. до н. э., то выйдет (просим прощения у читателя за несколько разговорное выражение») просто-таки «попадание в десятку». Геродот — в полном смысле слова «смеющийся историк». Все его жизнеощущение проникнуто глубочайшим оптимизмом, который прорывается почти на каждой странице его труда. Создается впечатление (и, кажется, не ложное), что этот галикарнасский грек работал с улыбкой удовлетворения на устах. Поражает жизнерадостность и доброжелательность, с которой он относится ко всему человечеству. Он не склонен сводить старые счеты, с симпатией относится не только к «своим», эллинам, но говорит немало добрых слов и по адресу народов Востока — египтян, лидийцев и даже «исконных врагов» — персов[157].
Если Геродот — историк-оптимист, то Фукидид, напротив, — историк-пессимист, «плачущий историк». Его мировоззрение порой мрачно до безысходности. Некоторые фукидидовские пассажи (например, II. 51–54; III. 82–84), написанные с огромной силой выразительности, при этом принадлежат, без преувеличения, к самым тяжелым и даже страшным страницам всего античного историописания, наряду со знаменитыми тирадами Тацита. Не могут не вспомниться в данной связи аристотелевские категории трагического — сострадание и страх, вызывающие очищение (Arist. Poet. 1449b27)