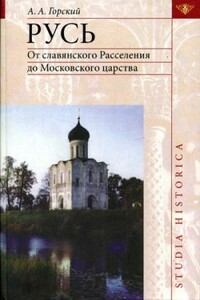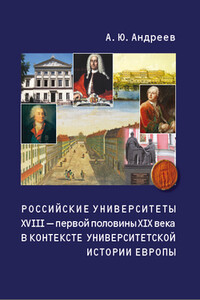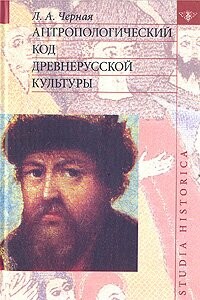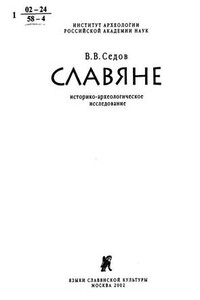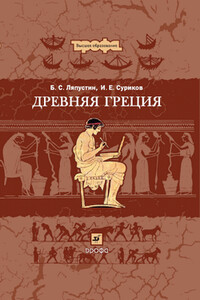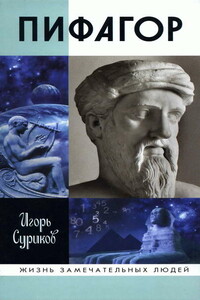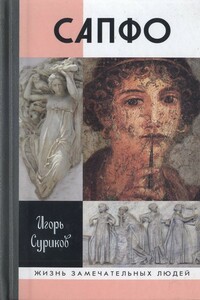Здесь мы выходим на проблему пропусков и умолчаний у Фукидида, исключительно важную для понимания творчества этого историка, но пока еще не получившую однозначного решения[142]. Суть проблемы заключается в том, что великий афинский историк, практически никогда не прибегая к прямым искажениям фактов и в этом отношении всегда оставаясь в рамках объективности, с другой стороны, вполне мог — и не так уж редко — в силу различных причин вообще не упомянуть в соответствующем контексте о том или ином, даже весьма важном, событии, попросту проигнорировать такое событие в том месте, где ему надлежало бы появиться. Достаточно привести exempli gratia хотя бы несколько взятых почти наугад исторических фактов большого значения, ставших жертвами «фигуры умолчания» у Фукидида: реформа Эфиальта 462/461 г. до н. э., знаменовавшая собой важнейший этап формирования афинской демократии, перенос казны Делосского союза на афинский Акрополь в 454 г. до н. э., после которого произошло перерождение этой симмахии в гегемониальную державу, Каллиев мир 449 г. до н. э., завершивший Греко-персидские войны[143], попытка созыва общегреческого конгресса в Афинах в 448 г. до н. э., интенсивная внешняя политика афинян в Центральном Средиземноморье в 450-х — 440-х гг до н. э. (включая основание под афинской эгидой панэллинской колонии Фурии), крупная морская экспедиция Перикла в Понт Эвксинский ок. 437 г. до н. э., остракизмы 444 и 415 гг. до н. э., в ходе которых из полиса изгонялись крупные политические деятели… Ни о чем из перечисленного у Фукидида нет ни слова[144], и, если бы не сообщения других, более поздних античных авторов (Аристотеля, Плутарха и др.), мы вообще не узнали бы об этих событиях, что, безусловно, обеднило бы наше понимание истории классической Греции. Вполне обоснованным будет суждение о том, что молчание Фукидида никогда не должно становиться для нас аргументом против историчности какого-либо факта.
Итак, если Геродот подчас говорит больше, чем необходимо, то Фукидид, наоборот, часто говорит меньше, чем следовало бы. Здесь контраст тоже очевиден, и в связи со сказанным необходимо коснуться вопроса о принципах отбора двумя историками находившегося в их распоряжении фактологического материала, их подхода к данным предшествующей традиции. К счастью, оба эксплицитно продекларировали эти свои принципы, и они опять же оказываются прямо противоположными. Вот позиция Геродота (VII. 152): «Мой долг передавать все, что рассказывают, но, конечно, верить всему я не обязан». А вот что пишет Фукидид (I. 22. 2), вне сомнения, в пику своему великому предшественнику: «Я не считал согласным со своей задачею записывать то, что узнавал от первого встречного, или то, что я мог предполагать, но записывал события, очевидцем которых был сам, и то, что слышал от других, после точных, насколько возможно, исследований относительно каждого факта, в отдельности взятого».
Иными словами, в первом случае историк считает своим долгом преподнести читательской аудитории всю информацию, которая есть в его распоряжении; соответственно, мы слышим в его труде многоголосый хор самых различных мнений[145]. Во втором же случае историк прибегает к сознательному отбору, излагает только те факты и суждения, которые представляются ему, лично ему достоверными. Метод Фукидида обычно считается началом исторической критики[146]. Пожалуй, что это и так (хотя, наверное, все-таки не лучший способ критики — замалчивание тех взглядов, с которыми автор не согласен). Но в то же время перед нами — начало догматизма в историописании, догматизма, который Геродоту был еще чужд[147]. Данные соответствующим образом «препарируются» и подаются в таком свете, чтобы не вызвать у читателя и тени сомнения в правильности проводимой историком концепции[148]. А между тем насколько ценнее был бы эпохальный труд Фукидида, если бы в нем, в дополнение к его прочим многочисленным достоинствам, еще и приводились иные точки зрения на спорные вопросы, если бы автор не пытался взять на себя роль высшего арбитра в вопросе о том, «что есть истина»…