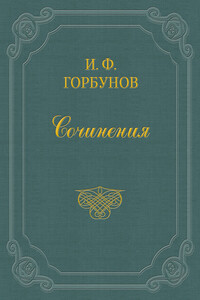– Ивана Семенова давеча видел: у Василья Блаженного на паперти стоит, – говорит купец соседу своему по лавке.
– Хорош?
– Весь распух, словно стеклянный стал, а духу своего не теряет. Увидел меня, словно бы маленько улыбнулся и сейчас опять в серьез вошел. Мигнул я ему, дескать, приходи… Не знаю, понял ли.
– Значит, гордости своей с себя не снимает…
– С отвагой стоит!.. Уж и туз же был!..
– Богатырь!..
Всякие безобразия и буйства, несмотря на строгие в то время порядки, проходили широким натурам даром. Разве какое-нибудь исключительное проявление дикого нрава вызывало протест со стороны графа Закревского, да и то кончалось большею частью только отеческим внушением.
– Ты опять! – встречает строгий граф широкую натуру, именитого купца.
– Виноват, ваше сиятельство!..
– Пора исправиться. Ты дурной пример подаешь своим детям.
Молчание.
– Ты уж седой!
– По родителю, ваше сиятельство: покойный родитель рано поседел.
– Ступай! Но чтоб больше этого не было!.. Стыдно! Ты знаешь, я не посмотрю, что ты…
Последняя фраза имела большое значение. В Москве тогда убеждены были, что граф Закревский имеет какие-то особенные бланки, по которым он может ссылать в Сибирь, постригать в монастырь и т. п.
Приходит широкая натура после генерал-губернаторского внушения в клуб.
– Ну что? – спрашивают.
– Ничего, разговор был самый обыкновенный… Про матушку спрашивал, – церковь ведь она тепереча строит… Ну, а после про это дело… «Мало ли что, говорю, ваше сиятельство, в своем саду делается…» – Ну, ничего, благородно обошелся… Мне вот только дьякона жалко. К Николе на Перерву его на исправление послали.
– А дьякона-то за что?
– Да вот изволите видеть: собрались мы у Назара Ивановича в саду. Ну, шум был… Что за важность! Ну, дьякон нам всем по очереди многолетие сказывал.
– Насколько я знаю, – вмешивается чиновник какой-то палаты, – он произносил многолетие не так, как следует.
– Обыкновенно как: кричал многая лета, а мы пели пьяные.
– Да, все это хорошо! Благоденственное и мирное житие – это бы ничего; а зачем он говорил: «на врагиже победы и одоление коммерции советнику…» Это весьма важно! Это ведь знаете…
– Да ведь ваш брат как пойдет привязываться…
– Да это не у нас, это в консистории.
– Ну, я там не знаю где, а только очень жалко! Этакого, можно сказать, удивительного баса и нашего друга… Ну, конечно, мы на Перерву-то к нему ездим, горевать там ему не дадим.
Большая часть притонов, где собирались по вечерам широкие натуры, теперь уже не существует; память об них сохраняется только в устном предании. То были: трактир у Каменного моста «Волчья долина», трактир Глазова на окраине Москвы, в Грузинах; кофейная «с правом входа для дворян и купцов» в Сокольниках; трактир в Марьиной роще и разные ренсковые погреба[16], В этих притонах широкая натура пила «Лиссабон», приводивший человека в неистовство; пила шампанское, приготовлявшееся в городе Кашине, одной бутылки которого достаточно было для того, чтобы привести человека в остервенение; била половых, била маркеров, била посуду и зеркала, целовалась с арфистками, становилась на колени перед цыганками и щедро оплачивала зорко следившего за нарушением общественной тишины и спокойствия квартального надзирателя.
Бывали и такие широкие натуры, которые, как говорится, смешивали грех со спасением.
– Заходи завтра, Иван Левонтьич.
– Нет, три дня чертили, отдохнуть надо.
– Да завтра ничего такого не будет… Весь хор прокофьевских певчих только… попоют… а чертить не будем. Признаться сказать, матушка коситься начинает, в Воронеж на богомолье ехать хочет. «На год, говорит, от вас уеду».
И вот собираются вечером широкие натуры, садятся чинно в зале. Налево в углу в золоченых киотах «божье милосердие», направо стол, уставленный закусками и разной цветной и бесцветной жидкостью акцизно-откупного комиссионерства. Выходит «сама», внушительной полноты женщина, с заплывшими глазами и тройным подбородком, а за ней «матушка», худая, высокая старуха в темном платье и черном платке, говорит на «о».
– Фекла Семеновна, матушка… – вскакивает Иван Левонтьич.
– И ты, грешник, здесь? – полусерьезно относится к нему старуха – Ну, те молодые ребята, их и палкой можно, а ты уж…