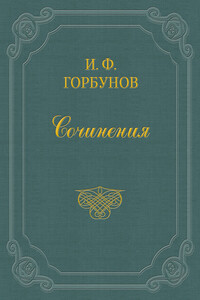– Вот ведь по делу Павла Матвеича надо бы уж давно ему в Сибири быть, а он в коляске… – замечает один из дельцов.
– Suum quique![8] Не завидуй! – успокаивает его губернский секретарь Никодим Кипарисов. – Все сравняемся!
Безумцы станут с мудрецами,
С ханжой столкнется изувер.
– Эх, Петя, сразил нас с тобой этот центифарис! (Центифарисом иверские юристы называли водку.) Не пей я – кто бы теперь я был? Может быть, епископом, может быть, профессором, может быть, гражданской палатой ворочал; а чем я кончил? – Магистром, да и то с таким формуляром, что самому в него смотреть стыдно!
– Epistola non erubescit[9], а я как глядя на нее краснею!.. Две диссертации написал на латыни, да какие! Преосвященный пред всей семинарией меня в пример поставил. «Кто, говорит, у вас, отец ректор, писал диссертацию на тему: „Mens agitвt molum?“[10] Никодим Кипарисов, сын заштатного дьячка. Велел мне из-за парты выйти и преподал благословение. Диоген в бочке[11] не переносил таких лишений, какие переношу я… У тебя хоть зимняя оболочка есть, а я с ужасом ожидаю пришествия борея:[12] не в чем будет на улицу выйти. А никому я не завидую!.. Сам себе такую дорогу проложил. Верь мне – придет время, „грядет час и ныне есть“ – полетим мы все вниз, как с Тарпейской скалы[13], и „пронесут имя наше яко зло“. Готовься к этому и мужайся. Дальше идти нельзя! Другие к нам на смену придут…»
– А другие-то лучше, что ли, нас будут? – возразил делец.
– Не знаю! «Темна вода во облацех воздушных». Но нам конец! Не токмо сенат, но и уездный земский суд затворит нам свои двери. Кроме образовательного – нравственный ценз потребуется… Ну!
– Ну?
– Ну и умри!
– «Правда и милость да царствует в судах!» – раздалось с высоты трона.
Оцепенели иверские юристы.
– «Да сбудется реченное», – воскликнул Никодим Кипарисов.
– Однако! – произнес со вздохом квартальный надзиратель.
– Теперь ступай к мировому, а не ко мне, мы больше не годимся, – иронически говорил комиссар просительнице.
– Сам, батюшка, нас рассуди! Зачем я полезу к мировому… Еще кто он такой…
– Молодой… С золотой цепью на шее сидит… Хе, хе, хе… да поверенного возьми. Деньги-то есть, что ли?
– Какие у нас, батюшка, деньги.
– Ну, уж это твое дело… Теперь там на лестнице поверенные стоят. Да ты не бойся: не от иверских – тех уж нет, – теперь все новые, хе, хе, хе.
– Кипарисыч, – говорит молодой купец иверскому юристу, прозябшему до костей у ворот московского трактира, – говорят, вашему брату последний конец пришел.
– Верно, господин коммерсант.
– Что ж, ведь замерзнешь без дела-то.
– По теории вероятностей должен замерзнуть.
– Ты бы к чему-нибудь пристроился. Говорят, еще на Хитровом рынке вашим братом не гнушаются.
– Что ж ты смеешься надо мной? Твой отец не только мной не гнушался, а когда его в яму тащили – в ногах у меня валялся. Выручи! Эх ты! Может быть, ты мне обязан, что капитал у тебя есть. Погоди, вспомнишь и нас! Мы самим богом были устроены для вашего купеческого нрава, а с новыми вам придется побарахтаться. Dixi![14].
– Это насчет чего?
– А насчет того, что ты, немилосердный человек, смеешься над умирающим.
И комиссары московские перемерли, и кипарисычи, и все члены иверской консультации отошли в вечность, но на почве, которую они возделывали и удобряли и на которой в былые времена произрастало «крапивное семя», – прозябло новое растение, не значившееся прежде в юридической ботанике и названное при своем появлении «аблокатом»[15].
Аблокат не имеет ничего общего с людьми, аккредитованными судом и институтом присяжных поверенных. Он торгует без патента. Между ними есть незрелые шантажисты, деяния которых не предусмотрены законом, но деяния эти заставили бы содрогнуться иверского юриста.
Об этих общественных деятелях впереди мое слово.
Немилосердный коммерсант, смеявшийся над умирающим иверским юристом Никодимом Кипарисовым, принадлежал к широким купеческим натурам.
То время было время широких натур, почти уже не существующего теперь типа загульных людей. Широкая натура появлялась тогда и в образе промотавшегося интеллигента, прислонившегося к загульному купцу в качестве «дикого барина», с обязанностью откупоривать бутылки, играть на гитаре, «выкидывать колена» и т. п., и в образе купца, разносившего публичные дома, и в образе художника, которому уже перестала повиноваться кисть, и в образе высокодаровитого артиста, пренебрегавшего преклонением пред его талантом народной массы, и даже в образе басистого дьякона. Широкую натуру в Москве уважали, она даже не теряла уважения и тогда, когда, растративши материальные, нравственные и физические силы, насидевшись в «яме» и навалявшись в больнице, становилась с нищими на паперти церковной.