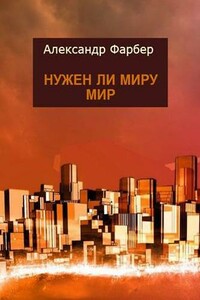Вместо пространного объяснения, проще представить здесь эпизод из разговора Павлова с одним из разработчиков проекта "500 дней" Б. Федоровым, будущим российским министром финансов:
"Итак, я спрашиваю:
— Скажите, какими способами вы рассчитываете сбалансировать бюджет, как ликвидируете бюджетный дефицит?
Б. Федоров отвечает:
— Очень просто. Мы на сорок процентов сокращаем расходы на оборону, на тридцать процентов ужимаем расходы на аппарат управления. Плюс к этому в два раза уменьшаем дотации на жилье, а дотации сельскому хозяйству резко убавляем.
Тут уж, честно говоря, я опешил и говорю:
— Извините, я что-то пока не понимаю, как вы мыслите вот так сразу, резко, почти наполовину сократить расходы на оборону. Это что — конверсия? Вообще, что вы предлагаете конкретно — срезать закупки военной техники или же уволить из армии часть офицеров?
— А какая разница? Пусть сами решают. Мы сокращаем расходы на сорок процентов и все. А об остальном пусть думает генеральный штаб, министерство обороны.
— Как какая разница? — изумился я. — Солдаты и офицеры пойдут домой — это одно. И в таком случае нужно подумать, как создать для них рабочие места, нужно выплатить им выходное пособие. Общеизвестно — многим офицерским семьям нужны квартиры. Все эти проблемы министерство обороны решать не будет, извините, не его это функции, об этом правительству надлежит заботиться. Если же речь идет о сокращении закупок вооружений, то здесь возникают совсем иные проблемы, поскольку остановятся некоторые военные заводы. А что будет с рабочими, инженерами, кто им будет платить зарплату? Из каких фондов? Это ведь тоже не компетенция Минобороны. Так что, разница преогромная.
И заранее надо знать, как и в каких сферах жизни аукнется резкое сокращение ассигнований на оборону. Но могу вам сразу навскидку сказать следующее: в результате такого сокращения расходов на оборону, общие бюджетные расходы не только не снизятся, а еще более возрастут, потому что потребуются средства на перепрофилирование заводов, на переобучение людей. Конверсия — дело дорогое, постепенное. Средств для ее проведения Вам никто не даст. Их надо зарабатывать самим."
Павлов продолжал в таком же духе объяснять своё видение проблемы, на что в итоге Федоров ответил:
"— Это не имеет значения. Мы сократим в целом, а в деталях пусть они сами разбираются."
Как "разобрались" различные министерства и ведомства в деталях, жителям бывшего СССР рассказывать не нужно. Многие, очень многие это прочувствовали "на своей шкуре".
Такие способы планирования в экономике возникли не на пустом месте. К 80-м годам ХХ века в капиталистическом мире начали побеждать взгляды американского экономиста, лауреата нобелевской премии, Милтона Фридмана. Он считал, что правительственное регулирование экономики приводит к нарушению личных и политических свобод человека. Его идеи о нежелательности государственного вмешательства в экономику, о большей эффективности рыночной конкуренции, чем госрегулирования, о приватизации многих сфер госучреждений, к примеру, таких, как армия, школа, постепенно завоёвывали мир. В числе сторонников его идей были премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и президент США Рональд Рейган. Пропагандируемые им принципы были взяты на вооружение Международным валютным фондом.
Потому-то в качестве консультанта по проведению реформ, в команду, организованную Ельциным, и был приглашён Джефри Сакс. Этот экономист международного масштаба был ярым приверженцем идей Милтона Фридмана. Впервые он прославился, как ведущий консультант правительства Боливии во время проведения там экономической реформы. Он же консультировал проведение экономических реформ в Польше. А ведь уже упоминавшийся выше экономист Леонтьев предостерегал руководство страны от следования рецептам зарубежных экспертов. Понимал, к чему это может привести.
Трудно назвать реформы Сакса в Польше удачными. Он обещал, что в стране будут только «временные неполадки». Однако через два года после начала реформ уровень промышленного производства снизился на 30%. Открытие рынка Польши для импортных продуктов привело к безработице, достигшей к 1993 году в некоторых районах страны 25-ти процентов. К 2003 году 59% поляков жили за чертой бедности, а к 2006 году 40% молодых поляков в не имели работы, что было вдвое выше средней цифры по Евросоюзу.