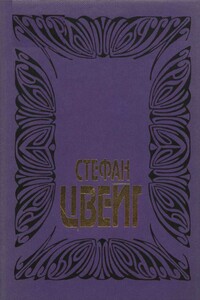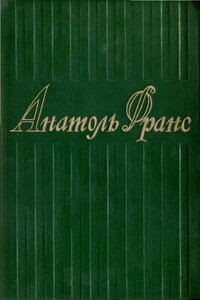He знаю, была ли эта жалоба смешна, по, рассказывая об aудиенции между двумя пульками в клубе, Степан Петрович Овсянский, attache при особе его превосходительства, смеясь, назвал ее chej d'oeuvre'oм бестолковщины.
— Начиналась она, — говорил он председателю казенной палаты Ля-Петри, большому приятелю Гвоздике, — на манер какой-то цыганской песни: «мы, живя среди лесов и полей дремучих»… Pardon! вы понимаете: я хочу сказать: «лесов дремучих», — поправился он, улыбаясь своей собственной игривости, — и так шла до конца в этом музыкальном роде. Сам Михаил Дмитриевич улыбнулся, передавая мне этот документ.
Степан Петрович был известен своим остроумием и умением смешно рассказывать. Это был человек салона par excellence. Около него тотчас же образовался кружок слушателей таких же праздных и самодовольных, как он сам.
— Нет, каково, я вас спрашиваю, je vous demande un peu, каково возиться с этими первобытными нашему милейшему Гвоздике? — воскликнул председатель, щуря левый глаз и поправляя браслет, который он носил в память какого-то печального события. — Право, эти господа-посредники приносят настоящую жертву!
— Да вы послушайте, как они про самого Гвоздику-то рассказывали, — продолжал Степан Петрович, довольный вниманием клубной аудитории, — просто потеха! Высекли их там, или что-то еще, ma foi, je n'en sais rieo!.. пошли они к нему жаловаться. Пришли, говорят, перекрестились и просят допустить. Ждали долго. Раз сказали — почивает; в другой говорят — собаку чешет; в третий — щенка учит. Видим, говорят, что господским делом занят.
— Impayable! — воскликнул председатель и совсем зажмурился от удовольствия.
— Нет, надобно было слышать, как они сами это рассказывали… Бесподобно! Вы слышали непосредственный, бессознательный юмор русского человека. Я чрезвычайно метко схватываю эти детали.
— J'espere bien! — воскликнул с видом одобрения председатель.
— И потом этот польский язык, — продолжал, с той же игривой возбужденностью Овсянский, который я, разумеется, опускаю, как совершенно невозможный для передачи. Quel jargon, s'il vcus plat! — обернулся ко мне Михаил Дмитриевич. — Impayable! говорю.
Степан Петрович посмотрел кругом: на лицах слушателей выражалось полное одобрение этому маленькому дивертиссементу.
— Как же отнеслись их превосходительство? — осведомился случившийся тут какой-то уездный пан маршалок из назначенных.
— Ну, разумеется, пообещал, обнадежил и мне поручил все разобрать, как будто можно что-нибудь понять и разобрать в этой ерунде!
Маршалок согласился, «что никак нельзя», и выразил на своем лице тонкую иронию. Улыбнувшись ему, Степан Петрович продолжал:
— Я тотчас к Никанору Антоновичу, a он, знаете, всю эту науку прошел a fond, сам посредником был, и говорю ему: как бы, говорю, Гвоздику-то: ведь вещи «бардзо неподобные» рассказывают. Все улыбнулись польскому словечку… Никанор Антонович задумался, потом вдруг говорит: — A вы, говорит, спрашивали: есть ли у них пропуск? — Тут меня как осенило. Мы к мужикам, a у них голубчиков, ни вида, ни пропуска, как птицы небесные… Никанор Антонович сейчас статью, и на законном основании — понимаете — водворить на месте жительства, a подлинную жалобу передать посреднику. Неправда ли: просто и ясно?
— И остроумно! — в том же тоне одобрения произнес председатель.
— Да, это голова! — сказал с убеждением Степан Петрович. — Он пойдет далеко: c'est moi qu vous le dis! Сейчас, сейчас! — крикнул он кому-то в буфет и, извинившись перед председателем, направился к буфету.