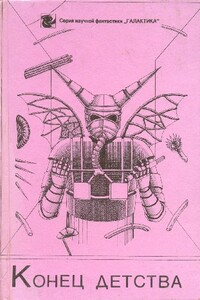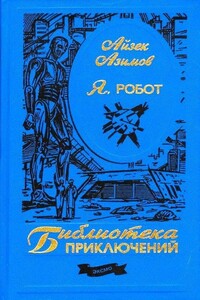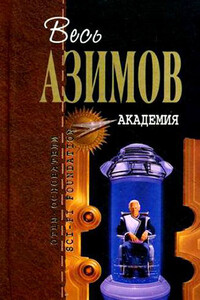Наконец после долгих поисков Вуд наткнулся на огрызок карандаша. Стиснув его в зубах, он затрусил к докам на Западной улице.
Ветер с реки гонял по набережной обрывки бумаги. Некоторые были довольно большими и чистыми. Поймав кусок бумаги, Вуд лапами прижал его к асфальту, языком v зубами переместил огрызок карандаша в своей пасти так, чтобы удобнее было писать. С трудом он вывел большими печатными буквами: “Я — человек”. Эти два слова заняли весь листок.
Отбросив карандаш, Вуд взял зубами бумагу и побежал к зданию газеты. Впервые он почувствовал уверенность в себе.
Вуд проскользнул в вестибюль с группой репортеров, возвращавшихся с заданий, снова поднялся по лестнице, положил бумагу на пол и потянул дверную ручку зубами.
Гилрой сидел за столом и печатал на машинке. Вуд подбежал к нему с бумагой в зубах и положил лапу на колено.
— Какого черта! — выдохнул Гилрой и отпихнул Вуда.
Но Вуд не уходил. Дрожа, он вытягивал шею как только мог, пока Гилрой не выхватил у него из пасти лист бумаги. Вуд застыл, жадно впившись глазами в тощего репортера.
Лицо Гилроя потемнело от гнева.
— Кто это вздумал дурака валять? — заорал он. — Кто впустил сюда эту псину и всунул ей в зубы эту идиотскую записку?
Никто не ответил Гилрою.
Вуд запрыгал вокруг него, истошно лая, пытаясь объяснить.
— Да заткнись ты! — загремел Гилрой. — Эй, рассыльный, вышвырни его отсюда! Не бойся, он тебя не укусит.
И опять Вуда постигла неудача! Но он не намерен был сдаваться — мозг его работал ясно и четко. Неудача? Да. Но он же нашел способ коммуникации. Ему просто не хватило места, чтобы все подробно разъяснить. Он напал наконец на правильный путь, которым и надо теперь следовать.
Вуд неожиданно подпрыгнул, схватил со стола карандаш, потом спокойно вышел из комнаты и сел у ног рассыльного, пока тот вызывал лифт.
Теперь Вуду не терпелось поскорее выбраться из здания и вернуться в доки, в свое убежище, где он мог бы обдумать возможность более подробного послания.
Вуд понял, что алфавиту нужно найти какую-то замену, доступную его неуклюжим зубам… Но какую?..
Длинные пыльцы Гилроя проворно выстукивали последнюю страницу статьи. Закончив работу, он направился к редактору.
Тот торопливо пробежал глазами текст…
— Ну как, неплохо? — вырвалось у Гилроя.
— А-а, что? — редактор как-то растерянно посмотрел на него. — Да, хорошая статья…
— Признаться, я был близок к отчаянию, — продолжал Гилрой. — Казалось, что зашел в тупик… А сейчас вдруг полиция опять подбирает на улице психа, который ведет себя по-собачьи, и на шее у него точно такой же разрез, как у тех троих. Может быть, этот факт и не очень проясняет картину, но, по крайней мере, придает ей новый поворот. Ничего, теперь-то я уверен, что мы докопаемся…
Редактор рассеянно слушал Гилроя.
— А ты его видел, этого последнего?
— Разумеется! Ей-богу, не знай я всей истории с самого начала, я бы тоже принял этого человека за сумасшедшего: он скачет по полу, все обнюхивает и пытается лаять…
— Да, события разворачиваются быстрее, чем я ожидал, — задумчиво сказал редактор. — Но вот только… Не знаю даже, как и сказать тебе это… — Он запнулся.
Репортер насупил брови.
— Что — “это”? — спросил он недоуменно.
— Видишь ли, я вынужден снять тебя с этого дела. Мне очень жаль, потому что оно начало вырисовываться. Мне очень жаль, Гилрой, но, черт возьми, такие уж у нас порядки.
— Такие, да? — Гилрой впился руками в крышку стола и наклонился к редактору. — На чьи мозоли мы наступаем? Не понимаю. В госпитале никто не протестует. Имен я никаких не называю. Так в чем же дело?
Редактор пожал плечами.
— Ничего не могу поделать. С приказами вышестоящих не спорят… Но у меня есть интересное задание для тебя…
Гилрой отошел к окну. “Отдел реклам вряд ли может настаивать на запрете, — подумал он. — Мы не рекламируем “Мемориал”. Что же касается Тальбота, то он вмешивался в дела редакции только в тех случаях, когда надо было прикрыть какую-нибудь грязную историю по части уголовщины. Редакторы? Они от силы подаются на дюйм, когда общественное мнение требует от них милю. Следовательно, раз редакторы и отдел рекламы здесь ни при чем, никого, кроме Тальбота, не остается…”