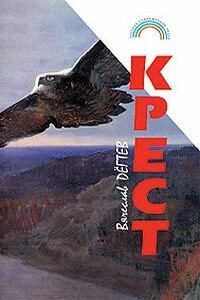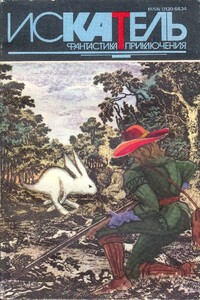И вот теперь я пошел на птичий рынок в третий раз. Раньше то был обычный рынок, но власти никак не могли выгнать оттуда азеров, которые контролировали рынок, пришлось отдать его чудакам-птицеловам, и азеры как-то сами собой рассосались. Пошел я туда, как уже упоминал, со старым институтским другом Эдиком, который «одел» моего Кирюху так, что и от живого не отличишь, которого в институте звали «Фантаст», в отделе — «Шиза», а на рынке, за раздвоенную бороду и всевозможные, всякий раз экстравагантные идеи и выходки, — «Солженицын». Мне он нравился как раз за то, за что не нравился многим: одевался он, как вздумается, говорил, что хотелось, делал, что нравилось. Он-то и вызвался подобрать мне клетку, а заодно показать, как сам выразился, «постоянных персонажей птичьего рынка».
Да, это были колоритные типажи: вот стоит парочка у разложенной на прилавке закуски с бутылкой водки: один столяр-краснодеревщик, золотые руки, а другой «Знаток», майор милиции, следователь, знающий всё и обо всем, говорят, даже отстоявший рынок перед высшим начальством, когда решено было переносить его куда-то в четвертый раз; вот кучкой стоят со своими щеглами Калябушка, Атоня и Хомяк; вот Футболист и Боксер, бывшие спортсмены, сплошь в «Адидасе», канареечники, а с ними рядом Мыши, братья-близнецы чижовские и Вовка-Кызя гусиновский, хромой и пьяный, — у этих чижи, ренела и голуби; немного поодаль от них дед Сапожник с лесной птицей о чем-то препирается с Кочубеем Танкистом, бывшим зеком и штрафником, который смакует желтоватый самогон из граненого стакана; вот прилизанный Слава Ашхабадец, саксофонист из оперного театра о чем-то перебрасывается с Игорем Петровичем, профессором (настоящим), наверное, хвалится, как про него кино снимали; рядом стоит Брехун, который всё ловил, всё стрелял («Всё, что мелькнуло — то моё!»), всё знает и со всеми сильными мира сего пил или пьет водку — поначалу ему верили, работает он в обкомовском гараже, а потом махнули рукой: не разберешь, где у него что; отдельно стоят соловьятники: отец и сын Гуськовы, отец и сын Игнатовы, Валёк Ямской, Колюха-Цыган из пожарки, Коридорный, а проще — надзиратель из СИЗО, дядь-Паша Бас и дядь-Юра Бык с Песчановки и кто-то еще.
Отличную текстурную клетку мы недорого сторговали у Ивана Страдивари — на ней хоть сидеть, хоть плясать можно. Рядом с Иваном стоял невысокий чернявый мужичок. «Знаешь, кто это? — толкнул меня в бок Эдик, когда отошли. — Это сам Безгин.» Да ты что! О нем даже я слыхал. Его гитары звучат по всему свету. Почти у всех эстрадных звезд — его гитары. Он делал гитары Бичевской, Шевчуку, иеромонаху Роману, а также Комару и самому Высоцкому.
Подошли трое казаков, в голубых фуражках с красными околышами, с плетками за голенищами. Чурок гоняют! — прошелестело над рынком. Казаки громко разговаривали: «Поганое время сейчас — предатели и ничтожества пытаются жать там, где не сеяли.» — «Ну так что ж! Стоять надо твердо — даже в грязи!» Один из казаков взял из рук Безгина гитару. Поставив хромовый сапог на ящик, заиграл: «Седлайте мне коня лихова, Черкесским, убранным седлом, Я сяду, сяду и поеду В чужие, дальние края. Быть мож винтовка-карабинка Убьет меня из-под куста, А шашка, шашка-лиходейка, Рассадит череп до седла…»
Мы подошли к соловьятникам. Я открыл коробочку, вынул оттуда Кирюху, развернул, посадил в клетку, отрегулировал звук на полную мощность, сказал: «Лёня! Любимый». Ох, и рванул же он! Это был не свист, это был рёв, — похоже, именно так в свое время и озоровал на больших дорогах Соловей-Разбойник, — он потряс всех на рынке. Все бросили торг и столпились вокруг меня и Эдика. Соловей вокалил минут десять, он спел полную классическую песню, вряд ли у кого из соловьятников был певец с подобной песней, он пел так громко и отчетливо, так мощно, что, говорят, было слышно даже на остановке за рынком, хотя там гремели трамваи и ревели машины.
И все-таки, стоило мне сказать, что соловей не настоящий, а кибернетический, все быстро, как по команде, разошлись, и никто, кроме Знатока и Брехуна, не сказал ничего. Машина, дескать, что с нее взять… А те высказали неприятную, но важную для меня вещь: если послушать долго, сказали, то можно просчитать каждое следующее колено почти наверняка; высчитывается также некая закономерность в вариациях, а у живого, природного, соловья, дескать, этого не просчитаешь ни под каким видом, ни в жизнь не определишь, какое колено будет в следующее мгновение, живой всякий раз импровизирует, никогда не повторяясь, а тут — запросто просчитывается, словно и не русский это соловей, а западный, к примеру, австрийский, который поет по-немецки пунктуально и как по нотам, а то, может, и вообще какой-нибудь соловей Гафиза, который только называется соловьем… Конечно же, говорили такое они из чистой зависти, однако доля правды, и большая, в их словах была, и слава Богу, и спасибо им за критику. Ибо в искусстве, как и в природе, нет плохого или хорошего, добавил Эдик, — а есть сильное и слабое; и сильный всегда прав. Таков закон природы. С этим оставалось только соглашаться и пытаться устранять слабину.