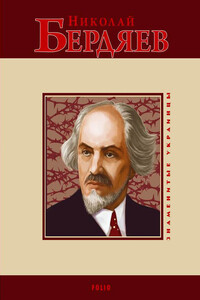лоб, по бокам лица спускаются косы. Сзади к шапочке приколота прозрачная белая вуаль.
Все в Тифлисе знали эту женщину — мать Сталина.
Я посмотрела первое действие и заскучала.
40
— Вот что, братцы, - сказала я Маке и Марике, — после Мейерхольда
скучновато смотреть такого „Реви-
77
зора". Вы оставайтесь, а я пойду пошляюсь (страшно люблю гулять по незнакомым
улицам).
Теперь самое время повернуть память вспять, в 1926 год — когда Мейерхольд
поставил „Ревизора". Мы с М.А. были на генеральной репетиции и, когда ехали домой на
извозчике, так спорили, что наш возница время от времени испуганно оглядывался.
Спектакль мне понравился, было интересно. Я говорила, что режиссер имеет право
показывать эпоху не только в мебели, тем более, если он талантливо это делает, а М.А,
считал, что такое самовольное вторжение в произведение искажает замысел автора и
свидетельствует о неуважении к нему. По-моему, мы, споря, кричали на всю Москву...
Уже начала мая. Едем через Батум на Зеленый Мыс.
Батум мне не понравился. Шел дождь, и был он под дождем серый и некрасивый.
Об этом я в развернутом виде написала в письме к Ляминым, но мой „цензор" — М.А. —
все вычеркнул.
Это удивительно, до чего он любил кавказское побережье — Батуми,
Махинджаури, Цихидзири, но особенно Зеленый Мыс, если судить по „Запискам на
манжетах", большей радости там в своих странствиях он не испытывал. „Слезы такие же
соленые, как и морская вода," — написал он.
Зеленый Мыс у него также упоминается в пьесе „Адам и Ева". Герой и героиня
мечтают стряхнуть с себя все городские заботы и на полтора месяца отправиться в
свадебное путешествие на Зеленый Мыс.
Здесь мы устроились в пансионе датчанина Стюр, в бывшей вилле князей
Барятинских, к которой надо подниматься, преодолев сотню ступеней. Мы приехали,
когда отцветали камелии и все песчаные дорожки были усыпаны этими царственными
цветами. Больше всего меня поразило обилие цветов... „Наконец и у нас тепло, — пишу я
Ляминым. — Вчера видела знаменитый зеленый луч. Но не в нем дело. Дело в цветах.
Господи, сколько их!" В конце письма Мака делает приписку: „Дорогие Тата и Коля!
Передайте всем привет. Часто вспоминаю вас. Ваш М."
Когда снимали фильм „Хромой барин" по роману
78
А.Толстого, понадобилась Ницца. Лучшей Ниццы, чем этот уголок, в наших
условиях трудно было и придумать.
Нас устроили в просторном помещении с тремя огромными, как в храме, окнами, в
которые залетали ласточки и, прорезав в полете комнату насквозь, попискивая,
вылетали. Простор сказывался во всем: в планировке комнат, террас, коридоров. В
нижнем этаже находились холл и жилые комнаты Стюров — веселого простодушного
хозяина-датчанина, говорившего „щукаль" вместо „шакал", его хорошенькой и кислой
русской жены и 12-летней дочери Светланы, являвшей собой вылитый портрет отца.
Из Чиатур с марганцевой концессии приезжали два англичанина со своими
дамами и жила — проездом на родину — молодая миловидная датчанка с детьми, плюс
мы двое.
Было жарко и влажно. Пахло эвкалиптами. Цвели олеандровые рощи, куда мы
ходили гулять со Светланой, пока однажды нас не встретил озабоченный М.А. и не
сказал:
— Тебе попадет, Любаша.
И действительно, мадам Стюр, холодно глядя на меня, сухо попросила больше не
брать ее дочь в дальние прогулки, т.к. сейчас кочуют курды и они могут Светлану украсть.
41
Эта таинственная фраза остается целиком на совести мадам Стюр.
Михаил Афанасьевич не очень-то любил пускаться в дальние прогулки, но в
местный Ботанический сад мы пошли чуть ли не на другой день после приезда и очень
обрадовались, когда к нам пристал симпатичный рыжий пес, совсем не бездомный, а
просто, видимо, любящий компанию. Он привел нас к воротам Ботанического сада. С
нами вошел, шел впереди, изредка оглядываясь и, если надо, нас поджидая. Мы сложили