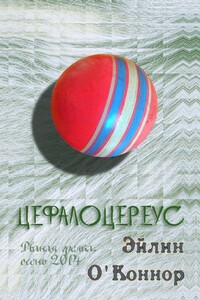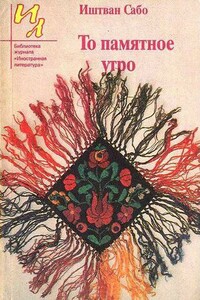Нагрубить злобно в ответ. «Да вы сами пародия!» И обгавкать еще в два голоса, чтобы знал наших. Тоже не вариант: и не умею, и противно.
Отшутиться. Самое, пожалуй, правильное, но вот беда: ни одной шутки не приходит мне в голову, да и вообще я не хочу шутить и посмеиваться рядом с этим наглым самодовольным жлобом, который походя оскорбил и мою (пусть не мою, но от этого еще хуже) собачку, и меня заодно.
И пока я раздуваюсь от молчаливого негодования, а в черепной коробке у меня пыхтит, свистит и бесполезно булькает, лифт доезжает до первого этажа и открывает двери.
А на площадке перед лифтом стоит высоченный, метра под два, хмурый небритый мужчина с довольно свирепой физиономией и держит под мышкой крошечного нечесаного йоркшира размером в половину нашей Дульсинеи.
Как по мановению волшебной палочки, в голове моей воцаряется мир и просветление. И, поймав вальяжного благоухающего красавца под локоть, я очень вежливо спрашиваю, кивая на йоркшира:
– А это – это тоже карикатура?
Двухметровый хозяин песика оборачивается к нам и рявкает:
– Чево?!
Этим «чево» моего собеседника сносит на пару шагов. Он проворно устремляется к двери, так и не удовлетворив мое любопытство.
– Карикатура или нет? – кричу я ему вслед. Мне хочется добиться ответа. Хочется справедливости и равноправия: отстаиваешь свою точку зрения перед хрупкой женщиной – так отстаивай ее перед двухметровым амбалом!
Но увы, увы. Мой собеседник удирает, не пожелав вступить в дискуссию.
Потом мы долго гуляем под унылым ноябрьским дождем, и я грустно размышляю, что нет ничего хуже этого времени года, когда уже ни октябрьской прозрачности, ни золотых сентябрьских чудес – ничего, кроме грязи, сырости и темноты. В таком мрачном настроении я подхожу к подъезду и вижу, что куст, торчащий в палисаднике, весь покрыт нахохлившимся воробьями. Легким перемещением воробьиной стаи голый куст ивняка превратился в весеннюю вербу.
– А говоришь, нету чудес, – укоряю я Дульсинею.
– Никогда я такого не говорила! – возмущенно открещивается собака, и верба, хлопая крыльями, взмывает и уносится куда-то в небо.
Маленький пудель Патрик к лету обкорнан коротко-коротко, за исключением шапочки на голове, и напоминает неведомо что: длиннолапый, нескладный, с закручивающимся к позвоночнику тугим, внезапно лохматым хвостом.
– А что это у вас за порода? – интересуются встречные.
Пудель, говорю.
Лица у спрашивающих меняются. Самые деликатные просто сочувственно поджимают губы и скорбно кивают. Более прямолинейные так честно и говорят:
– Господи, страшненький-то какой!
Или:
– Ой, а почему такой длинный? Бракованный, да?
Или:
– Бееееедненький! (абсолютно точно попадая в жалостливую интонацию героини Захаровой в «Формуле любви»).
К третьей прогулке я поняла, что совершаю одну и ту же системную ошибку. И стала отвечать по-другому.
– А что это у вас за порода («…такая маленькая, подозрительная и уродливая» – слышится непроизнесенное)?
А это, говорю, дворняжка! Метис пуделя.
Люди расплываются в улыбках.
– Какой хорошенький!
– Прелесть!
– Ножки-то какие длинные!
– Пудели – они ужасно умные!
И собрав комплименты нашей стати и потенциальному интеллекту, мы с довольным Патриком идем дальше.
Отчасти в связи с этим мне вспоминается, как моя матушка привела моего же ребенка в садик. В раздевалке на них долго смотрела чужая бабушка, представительная красивая женщина со щеками и перманентом, а потом строго спросила:
– Это ваша дочь?
– Внучка, – сказала матушка.
– Тощая какая! – пригвоздила чужая бабушка и поплыла прочь, спиной и затылком выражая неодобрение.
– Надо было говорить, что ничейная, во дворе подобрали, – сказала я матушке на днях, то есть много лет спустя.
– Облаять ее надо было по первое число! – неожиданно возразила моя тихая матушка. Подумала и присовокупила: – И укусить.
Я, конечно, в этой суровой реальности беззащитный баран. Точнее, овца. Меня легко испугать, причем потом приходится ловить по кустам или выманивать на еду, чтобы я вышла. На блинчики с мясом хорошо выманивать, на шарлотку еще, или вот на такие маленькие пирожки, в которых капустка и лучок обжаренный.