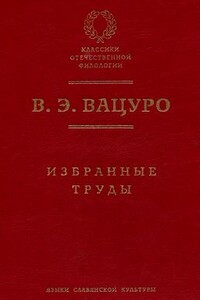О Лермонтове - страница 63
1837 год является своеобразной вехой в истории лермонтовского фольклоризма. В первой кавказской ссылке он получил возможность услышать в живом исполнении песни гребенских казаков и ознакомиться в устном пересказе и переводе с грузинским и азербайджанским фольклором. Небезынтересно, что и здесь, в результате обращения к подлинному материалу, появляется запись фольклорного текста. Она относится к 1837 году, когда Лермонтов, оказавшись в ссылке, начинает заниматься азербайджанским языком и ближе знакомится с бытовой, материальной и литературной культурой Кавказа и Закавказья. Запись эта, литературно обработанная «турецкая сказка» «Ашик-Кериб», по-видимому, есть один из азербайджанских вариантов дастана «Ашыг-Гариб», широко распространенного у многих, главным образом тюркоязычных, народов Средней Азии, Кавказа и Закавказья (существуют также его грузинские и армянские версии)[255]. Замечательно, что эта запись появляется почти одновременно с «Песней про царя Ивана Васильевича..»: она, конечно, была следствием того поворота к пониманию фольклора как отражения народного быта и нравов, который произошел у Лермонтова еще в Петербурге.
Начиная с 1837 года можно говорить об элементах фольклоризма в кавказских стихах и поэмах Лермонтова. Сфера их, однако, ограниченна: как мы пытались показать выше, ни «Мцыри», ни «Демон», ни «Тамара» не содержат в себе ничего такого, что свидетельствовало бы о сознательном воспроизведении фольклорной стихии, осознанной как некая специфическая литературная сфера. Дело меняется в «Беглеце», «горской легенде», написанной в 1837–1838 годах (по утверждению А. П. Шан-Гирея, «не позднее 1838 года»)[256]. Общая сюжетная ситуация поэмы имеет более или менее близкие параллели в ряде сказаний и песен Азербайджана (песня о Кер-Оглы), Чечни, Дагестана; черкесские песни с подобным сюжетом Лермонтов мог почерпнуть и из письменных источников, в том числе из Тетбу де Мариньи[257]. Однако поэма как художественное целое возникает не столько на основе синтеза этих источников, как это было в «Песне про царя Ивана Васильевича…», сколько на основе свободного развития мотивов, составляющих как бы этико-психологический и бытовой субстрат. «Горская легенда» сочинена, причем сочинена с учетом художественного опыта «Песни про царя Ивана Васильевича…». Композиционно она выстраивается по знакомому уже нам принципу троичности с градацией; нет сомнения, что этот прием был осознан Лермонтовым как специфичный для фольклора прежде всего на материале русской песни и былины. Градация выдержана очень точно; «легенда» полна нарастающего драматизма. В первом эпизоде Гаруна отвергает прежний друг, во втором — возлюбленная, в третьем — мать. По справедливому замечанию новейшего исследователя, трагедия усугубляется тем, что Гарун — младший сын, «в народно-сказочной традиции — самый умный, справедливый, удачливый»[258]. Но художественной доминантой поэмы являются все же не эти черты, а создаваемый Лермонтовым тип рассказчика; тон и эмоциональный колорит повествования принадлежат ему и направляются лермонтовским представлением о национальном и социальном характере горца. Это особенно очевидно в заключительной части поэмы:
(IV, 147)
Крайняя жестокость концовки выступает еще более рельефно на фоне эпически хладнокровной интонации рассказчика. Но жестокость не столь чудовищна, как должно это казаться европейцу: перед нами иная, неевропейская система ценностей и этических представлений. Нечто подобное мы видели и в «Песне про царя Ивана Васильевича…». Но в «Песне» фольклор был непосредственным материалом для синтезирования национального характера; здесь же фольклор является скорее сопутствующим элементом; национальный характер возникает не из него, хотя и с учетом его. Интересно отметить, что Лермонтов прибегает к прямой стилизации «песни старины»: он заимствует из «Измаил-Бея» «черкесскую песню» «Месяц плывет» и перерабатывает ее в духе этических представлений, отразившихся в «Беглеце». Это не единственный случай имитации «горского фольклора»: совершенно аналогичную судьбу имела другая сочиненная Лермонтовым песня — «Много дев у нас в горах», попавшая из «Измаил-Бея» в «Бэлу» и включившаяся в иной литературный и этнографический контекст