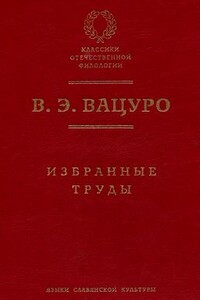. Такой случай наблюдается в «Морской царевне»: «чудо морское с зеленым хвостом», «синие очи любовью горят», «ловит за кисти шелковой узды». Стилизация ведется очень осторожно; как и в «Беглеце», этнический фон приглушен; его национальная специфика лишь обозначена, и этого достаточно, чтобы направить поток читательских ассоциаций в сторону народно-поэтической традиции. Фольклорная и литературная, «книжная» стихии вступают в сложные и тонкие взаимоотношения; любопытно, что для многих стихов зрелого Лермонтова можно указать наряду с фольклорными и литературные аналоги. Это относится даже к такому, казалось бы, явно фольклорному стихотворению, как «Казачья колыбельная песня». Роль народно-поэтической традиции здесь несомненна
[264], но столь же несомненна и близость его к «Lullaby of an infant chief» («Колыбельной сыну вождя») В. Скотта
[265]. Элементы фольклорной поэтики, входя в художественную ткань, видоизменяют ее; стихотворение создается как бы на границе двух сфер поэтических представлений. Обаяние народно-поэтического колорита в «Казачьей колыбельной» таково, что исследователи, сопоставлявшие ее с песнями гребенских казаков, как будто не замечали кардинальной разницы поэтических систем: от их внимания ускользали и сложность строфики, и богатство рифм лермонтовского стихотворения, вовсе не свойственные народной лирической песне. Но при восприятии целого отличия не выдвигаются на передний план; художественный акцент ложится на те элементы образной системы, которые действительно роднят «песню» с подлинным фольклорным произведением. Мы находим здесь и следы эпической гиперболизации («богатырь ты будешь с виду»), и характерные уменьшительно-ласкательные образования («образок святой», «седельце боевое», «песенка»), и постоянные (или созданные по типу постоянных) эпитеты («злой чечен», «горькие слезы», «месяц ясный»). Все это — черты фольклорные, но они выступают в новом, функционально преобразованном виде, — они характеризуют прежде всего строй чувств героини и ее индивидуальное, субъективное отношение к изображаемому. Образ матери-казачки организует и мотивирует все эти элементы; песня написана от ее имени и о ней. Это отличает стихотворение от народной лирической песни, где «повествователя» в точном смысле слова нет: он внеличен, внеиндивидуален; в народной песне интересно то, что (и как) рассказывается, а не тот, кто рассказывает. Лермонтова-лирика интересует характер, возникающий из рассказа. Характер этот демократичен; ему свойственны черты народного сознания. В «Казачьей колыбельной» это солдатка, казачка; в «Завещании» (1841), «Свиданьи» (1841), может быть и в «Соседке» — армейский офицер, ведущий почти солдатскую жизнь. Их жизненные драмы, даже трагедии выражаются во внешне безыскусственной форме; они угадываются за лаконичным и скупым жестом, за эпическим тоном рассказа:
Стану целый день молиться,
По ночам гадать.
(II,141)
Этот народный характер уже был в лермонтоведении предметом специального внимания[266]. Нам известны в общих чертах и стилистические средства, к которым прибегает Лермонтов для его создания: намеренно прозаизированная стихотворная речь, избегающая тропов; бедная рифмовка; своеобразный сдержанный и мужественный тон, избегающий всяких форм прямого лирического самовыражения. Была отмечена и «фольклорность» поздних стихов Лермонтова: полусолдатский быт героя «Завещания» изображается и в солдатских песнях и виршах эпохи; лирические ситуации «Сна», «Завещания» находят аналогии в песнях гребенского казачества. Но сейчас нас интересует вопрос иной и более узкий: в какой мере фольклорные образцы отражаются в самой поэтической ткани этих стихов, и если эта связь существует, то в чем она заключается.
Здесь нам приходится обратить внимание на некоторые особенности психологического облика и поэтической речи героя этих поздних баллад Лермонтова. Это не солдат, не крестьянин, это (как точно отметил уже Д. Е. Максимов) армейский офицер, «кавказец», типа Максима Максимыча. Его литературное сознание, о котором можно говорить, формируется не классическим фольклором, а в первую очередь литературой: он «потихоньку в классах читал „Кавказского пленника“», во время службы «на свободе читает Марлинского и говорит, что очень хорошо» (очерк «Кавказец»; VI, 348,349). Он воспитан, таким образом, на романтических образцах, но отнюдь не только на них; его эстетическая сфера — это и массовая городская и солдатская песня, удержавшая как черты традиционного фольклора, так и письменной литературы, городской «мещанский» романс с элементами неистовой баллады, — стихотворство песенника и лубка, «низовой» литературы с несложившимся эстетическим каноном. Именно от этой сферы фольклорного и полу-фольклорного творчества идут некоторые интонации поздних лермонтовских стихов, написанных от имени героя «кавказца». Так, в «Соседке» воспроизведена «неумелая» поэтическая речь — начиная от двустиший с парными грамматическими рифмами и вплоть до искусственного выбора слов «под рифму», как это бывает у непрофессиональных грамотеев — версификаторов: