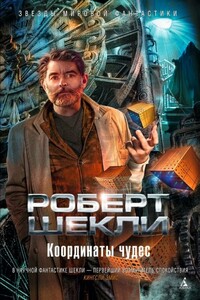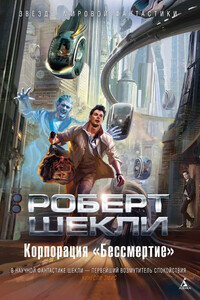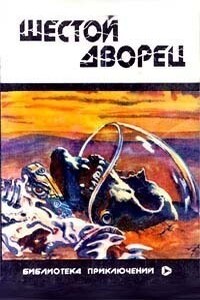— Строго между нами, у меня порой та же самая проблема. Хорошо, что ты тут и мне об этом напомнил. Так, значит, ты говоришь…
Лорк перешел к другой группе.
— …небесная пирушка. Совершенно чудесная…
— …конечно, поскольку мы решили причалить в Перте, а эти древние предписания еще в силе, нам пришлось реально проходить таможню…
— …на круизном корабле из Порт-Саида в Стамбул, и там был плеядский рыбак, играл чудеснейшие вещи на сенсор-сиринге…
— …а потом пришлось автостопить через весь Иран — моно не работал. Я правда думаю, что Земля трещит по швам…
— …прекрасная вечерина. Совершенно небесная…
Очень молодые, думал Лорк; очень богатые; каковы определяемые этими условиями пределы различий?
Босоногий, с веревочным поясом, лев наблюдал, опершись о косяк двери.
— Как делишки, капитан?
Лорк махнул Дану рукой, пошел дальше.
«Теперь», особое и хрустальное, внутри его. Музыка вторгалась в пустую маску, туда, где голова возлежала на подушках своего же дыхания. На помосте с клавесином мужчина играл павану Бёрда[2]. Лорк шел дальше, звук перебили голоса в другой тональности. На помосте через улицу два парня и две девушки, одетые как хиппи двадцатого века, воссоздавали текучую антифонную мелодию «Мам и Пап»[3]. Свернув в проулок, Лорк оказался в толпе, увлекшей его за собой и в итоге донесшей до нагромождения электронных инструментов, воспроизводивших дисгармоническое, текстурное безмолвие «Тоху-Бохунов». Отзываясь ностальгией на поп-ритмы десятилетней давности, гости в дутых головах из маше и пластика расходились танцевать вдвоем, втроем, впятером и всемером. Справа качалась голова лебедя. Слева лягушачья морда виляла на усыпанных блестками плечах. Лорк шагал, и в его ухо вплетались лишенные третьей доли модуляции, которые он слышал в динамике «Калибана», когда тот парил над Гималаями.
Они носились между танцующими.
— Он это сделал! Ну не душка ли Князь? — Они орали и вихлялись. — Добыл турецкую музыку!
Мерцая под винилом бедрами, грудями, плечами (в теплую погоду в материале раскрывались поры, чтобы прозрачный костюм стал шелково-прохладным), Чхе Он крутилась на месте, придерживая мохнатые уши.
— Все припали к земле! На четвереньки! Мы вам покажем наш новый танец! Вот так: просто качайте своим…
Лорк вращался под взрывающейся ночью, чуть изнуренный, чуть возбужденный. Он пересек огибавшую остров улицу, прислонился к камню возле прожектора, лившего свет на дома Сен-Луи. На набережной по ту сторону реки гуляли люди, парами и поодиночке, глазея на фейерверки или просто наблюдая за веселящимися.
Позади Лорка расхохоталась девушка. Он обернулся…
…Голова райской птицы, синие перышки вокруг глаз из красной фольги, красный клюв, красный волнистый гребешок…
…А она отделилась от компании, чтобы склониться к парапету. Ветерок колыхал вставки малинового платья, и те тянули витые медные застежки на плече, кисти, ляжке. Она возложила бедро на камень; пальцы одной ступни в сандалии касаются земли, второй — висят в дюйме от. Длинными руками (малиновые ногти) сняла маску. Положила ее на стенку, ветерок растрепал черные волосы, бросил на плечи, вознес. Вода внизу зернилась, будто в нее швыряли песок.
Лорк отвернулся. Посмотрел снова. Нахмурился.
Есть две красоты (ее лицо высекло из него эту мысль, отчетливую и завершенную). Первая: черты и формы подчиняются усредненному стандарту, который никого не оскорбит; такова красота моделей и популярных актрис; такова красота Чхе Он. А вот вторая: глаза — разбитые круги голубого нефрита, крутые скулы изогнулись высоко над белыми впадинами широкого лица. Подбородок широк; рот тонок, ал и еще шире. Нос ниспадает с переносицы, ширясь у ноздрей (она вдохнула ветер — и, глядя на нее, он заметил речной аромат, парижскую ночь, городской воздух); черты лица слишком строгие и яростные для такой молодой женщины. Но властность, с какой они сошлись, притянет взгляд снова, знал он, стоит отвернуться; врежется в память, стоит уйти. Ее лицо подчиняло так, что всего лишь красивым оставалось только грызть щеки изнутри.
Она взглянула на него:
— Лорк фон Рэй?
Внутри маски Лорк нахмурился сильнее.