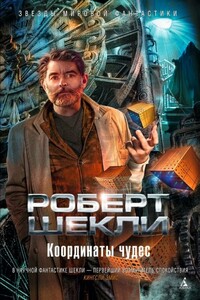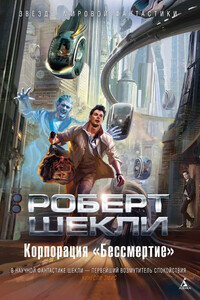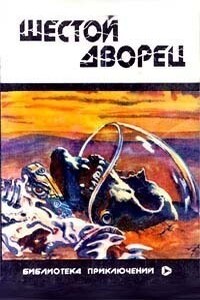Нарастающий смех был прерван рокотом внизу и тремя отчетливыми ударами, причем второй удар прозвучал значительно громче первого и третьего.
Бабуин скосил глаза, чтобы посмотреть на часы, и как раз в это время Максимиллиан открыл дверь: стрелки показывали семнадцать минут третьего.
Максимиллиан вернулся с прогулки полчаса назад и уже довольно далеко продвинулся в сравнении аполлинеровского «Убиенного поэта»[58] с переводом Паджета, когда сквозь закрытую дверь донесся вой уницикла.
— Воистину говорю вам, братья мои, — читал он, — лишь немногие зрелища не угрожают душе. Кроме театра природы, я знаю лишь один… — Максимиллиан поднял голову и нахмурился; знакомый вой перешел в знакомый рев. — …лишь один, куда можно было бы пойти без страха… — Мотор кашлянул и замолчал, и Максимиллиан закрыл книгу.
— Макс!
Дверь с шумом распахнулась, с размаху стукнулась о книжную полку, и в комнату ворвался Джоуи:
— Макс, оно чуть сюда не проникло! Но у него ничего не вышло! Я перехитрил его! Я заманил его в цистерну. Оно споткнулось и упало в… Боже мой, Макс!
— Ты о чем?
— Оно хотело открыть запертую комнату! — захлебываясь, кричал Джоуи, — И выпустить! Но я не дал! — Он схватился за край стола. — Макс, не делай таких больше! Макс, умоляю, никогда больше таких не делай!
Максимиллиан покачал головой. Ему хотелось, чтобы Джоуи больше никогда не врывался в его тихий уютный кабинет. Это стало его самым сильным желанием.
— Не делать чего?
— Ну, таких вот, как эти!
— Черт побери, Джоуи, убирайся отсюда вон!
Он встал, дивясь силе своего гнева и понимания, что подергивание мышц на лице — его собственная гримаса от недовольства чересчур громким голосом.
Джоуи попятился к двери. Он трижды пытался выговорить какое-то слово, но всякий раз застревал на букве «б». Потом он развернулся и ушел.
За стенкой снова загремел уницикл. Максимиллиан сел и не смог отыскать место в книге, на котором остановился.
Джоуи грохотал вверх по ступеням башни. Ему было плевать, что Макс не знает, от какой опасности он их только что спас. И плевать, если Макс не даст ему больше ни одной книги во веки веков. И выходил ли когда-нибудь Макс из своего пыльного кабинета, тоже плевать. И если он сильно разозлится, то Максу лучше поостеречься, потому что он может его уничтожить.
Он домчался до самого верха и выкатил на крышу башни. Удержался рукой за стену, слез и прислонил уницикл к дверной ручке.
В бегущих облаках возникала и пропадала крохотная луна. Возле балюстрады блестела лужа, ветер морщил ее поверхность и трепал его волосы, так что они щекотали лоб.
Плевать, что он больше никогда не увидит Макса. Он создаст себе красивую, нежную, интересную девушку, которая будет слушаться его во всем и никогда не станет возражать. А как она будет любить его! На этот раз он сотворит темнокожую. И может быть, она будет играть на автоарфе. Да, у нее будет красивый голос, и она станет петь ему каждый день после обеда, и будет темной и теплой, как тени в залах дальних этажей.
Джоуи поднял с парапета зеленую ткань. Сел, прислонившись спиной к камню. Укутал прозрачным газом руки и уткнулся в них подбородком. Материя уже почти совсем высохла.
Он попытался думать об интересной темнокожей девушке, но было зябко, мысли блуждали, каменные плиты холодили босые ступни и зад через ткань джинсов (белья он больше не носил), и Джоуи чувствовал, что скоро надо будет застегнуть куртку под самый ворот свитера. Он прищурился, и грязное пятно на правом стекле очков вызвало из лужи, в которой отражалась луна, беззвучный взрыв серебристых иголок. Он устал, устал до такой степени, что мог бы уснуть прямо здесь, но прежде нужно было еще немного подумать о девушке, пока за спиной не раздастся ее голос, зовущий: «Джоуи? Джоуи?..»
На другой башне часы пробили три. Он встал на колени и глянул через парапет. Однако удары слышались со стороны Западного флигеля, где с часами было все в порядке.
— …Джоуи?
Послесловие: о снах и сомненьях
(Перевод Т. Боровиковой)
Когда литератора просят написать о своих произведениях — скажем, рецензию на собственный сборник рассказов, — большинство прибегает к отвлекающим маневрам. То, что делаешь, когда «сочиняешь» — как то, что делаешь, когда кровоточишь или когда выздоравливаешь от болезни, — и слишком просто, и слишком сложно для повествования средней степени подробности, какое чаще всего подразумевается в таких случаях. («Конечно, нам нужно что-то информативное, но не стоит вдаваться в слишком технические детали…») Как ни странно, это просто и сложно не из-за моих личных литературных методов, а из-за всего того, что уже сказано о писательском ремесле. Выразиться просто — значит сказать (каким угодно способом), что все эти люди были правы. Выразиться сложно — значит сказать, что они ошибались, и объяснить почему.