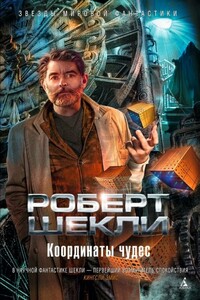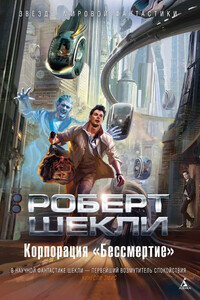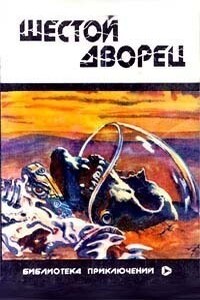— Отдадите. И мне плевать. В смысле, на корабль плевать. Но, босс, я хотел с вами поговорить насчет этого парня.
Что-то такое есть в этом Сэнди…
Я и не подозревал, что у него есть какое-то мнение о Рэтлите — ну, кроме общей досады на то, что Рэтлит путается под ногами. Кроме того, Сэнди, кажется, искренне волновался. Мне стало любопытно. Он экал и мекал всю дорогу до бара и на протяжении двух кружек пива (я пил горячее молоко с медом), и наконец пережеванные мысли обрели форму:
— Босс, понимаете, я ближе к Рэтлиту, чем к вам. Не только по возрасту. Моя жизнь больше похожа на его жизнь, чем ваша. Для вас он почти как сын. А для меня он как младший брат; я его учил всему. Я не понимаю его до конца, но вижу яснее, чем вы. У него была тяжелая жизнь, но не до такой степени тяжелая, как вам кажется. И он вас облапошит — не в смысле денег, но вытянет из вас все, что сможет.
Я понятия не имел, откуда это взялось, но мне не нравилось то, что происходит.
— Он не вытянет из меня ничего против моей воли.
— Босс, у вас есть свои дети? — спросил вдруг Сэнди.
— Девять, — ответил я. — Было. С теми, кто остался в живых, я больше не вижусь, и их другие родители всегда были этому только рады — за единственным исключением. Но и у нее хватало ума не ссориться с остальными, пока она была жива.
— Ох. — Сэнди опять замолчал. Вдруг он полез в карман комбинезона и вытащил трехдюймовую фоторамку. Огромные ручищи со въевшейся смазкой — я научил их поднимать с пола яйцо, не раздавив, манипулятором с коэффициентом передачи пятьсот к одному — неуклюже возились с рычажками. — А у меня семеро.
На фотографии хихикали и толкались семеро мартышек, как две капли воды похожих на Сэнди. Разве что прыщей недоставало у самых младших. Они даже переминались с ноги на ногу точно так же. Они замахали руками, и из динамика послышалось: «Привет, па! Здравствуй, па! Па, мама велела сказать, что мы тебя любим! Па, па, приезжай скорей!»
— Сейчас я не с ними, — хрипло сказал он. — Но я вернусь, как только скоплю достаточно денег. Заберу их из этой адской дыры, где они сейчас живут, и пристрою в семейную группу приличного размера. Сейчас там только двадцать три взрослых, и обстановка накалилась. Я потому и уехал. Мы уже даже не могли по-человечески друг с другом разговаривать. Дети, их у нас тридцать два, переживали, что я уехал. Но скоро я смогу это поправить.
— На то жалованье, что я тебе плачу?
Я впервые слышал обо всем этом, и такова была моя первая мысль. Вторая (я не стал ее озвучивать): «Так какого черта ты не возьмешь этот корабль и не продашь его?» Когда человеку за сорок и он работает на себя, даже самый закоренелый романтик мигом становится практичным.
Сэнди грохнул кулаком по стойке бара:
— Босс, я это и пытаюсь сказать! Про вас и про Рэтлита. Вы оба вбили себе в голову, что это все, конец. Ну да, человек должен понимать, в чем его ограничения, но это должны быть реальные ограничения! Да, надо понимать, что в определенную сторону тебе путь заказан. Но когда это поймешь, поймешь и то, что есть и другие направления и по ним можно уйти настолько далеко, насколько захочешь. Слушайте, я не собираюсь всю жизнь околачиваться на Звездной Станции! И если я выберусь обратно в центр галактики, накоплю денег, чтобы вернуться домой и обеспечить семье достойную жизнь, — для меня это будет путь вперед, а не назад! Даже отсюда это будет путь вперед! А не отступление!
— Ну ладно, ладно, — сказал я. Тихоня Сэнди удивил меня. Я все же не мог понять: если деньги ему так нужны, почему он не рвется продать корабль, сам упавший к нему в руки. — Я рад, что ты мне открылся. Но какое отношение все это имеет к Рэтлиту?
— Ага, Рэтлит. — Он засунул фоторамку обратно в карман. — Босс, Рэтлит мог бы быть вашим сыном. Вы хотите стать ему советчиком, другом и опекуном, которых у него никогда не было, — дать ему то, чего вы не дали своим детям. Но Рэтлит еще и я — каким я был десять-пятнадцать лет назад, без родины, без цели, без системы ценностей, которая помогает понять, куда идти, замешанный в разных неблаговидных вещах — главным образом потому, что понятия не имеет о благовидных.