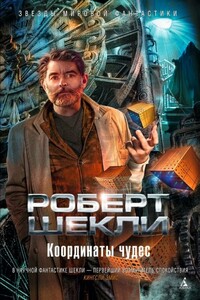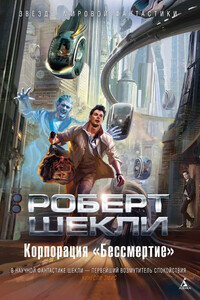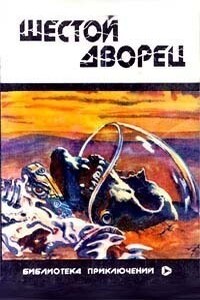Рэтлит открыл дверь. За ней стояла потрясающая красавица.
— Входите, — сказала она, и ее голосу вторил большой симфонический оркестр с хором в полном составе. — Вайм, что это ты тащишь? О, да это же золотой!
У меня перед глазами замерцали головокружительные желтые вспышки.
— Положи его, положи скорей, надо понять, что с ним!
Сотни глаз, прожекторов, сверкающих объективов. Я опустил золотого на матрас в углу.
— О-о-о… — выдохнула Алегра.
И оказалось, что золотой возлежит на оранжевых шелковых подушках в ладье драгоценного дерева, влекомой лебедями под звук флейт и барабанов.
— Где вы его нашли? — прошипела Алегра, облетая на метле луну цвета слоновой кости.
Мы смотрели, как сверкающая ладья скользит по серебристым водам меж утесами в сотнях футов под нами.
— Подобрали на улице только что, — ответил Рэтлит. — Вайм решил, что он пьян. Но от него не пахнет.
— Он смеялся? — спросила Алегра.
Смех раскатился по воде и отразился от скал.
— Угу, — ответил Рэтлит. — Как раз перед тем, как отрубиться.
— Значит, он из Андокской экспедиции, она только что вернулась.
Комары пикировали на нас сквозь мокрые кроны. Насекомые роились средь листьев, задевая капли, которые осыпали нас осколками хрусталя, а ладья, едва видимая за пальмами, дрейфовала по томной от зноя, сверкающей реке.
— Точно. — Я лихорадочно заработал веслами, чтобы не столкнуться с гиппопотамом, который чуть не перевернул мою пирогу. — Я и забыл, они только что прилетели.
— Так, — дыхание Рэтлита вырывалось из губ облачком, — вы меня потеряли. Найдите меня обратно. Откуда они прилетели?
Снег скрипел под полозьями, а мы смотрели на баржу, почти достигшую белого горизонта.
— Из Андока, разумеется, — сказала Алегра; лай затихал вдали. — Откуда еще?
Белое затмилось и стало черным, а ладья — сверкающим пятном в галактической ночи, влекомым трудолюбивыми кометами.
— Андок — самая дальняя из посещенных на сегодня галактик, — объяснил я Рэтлиту. — Экспедиция вернулась только на прошлой неделе.
— Больная, — добавила Алегра.
От жара кровавые пузыри вскипели у меня в глазах; я соскользнул на землю, хватая ртом воздух… язык стал шершавый, как бумага…
Рэтлит кашлянул.
— Алегра, хватит! Перестань! Не нужно драматических эффектов!
— Ой, Рэтти, Вайм, простите.
Прохлада, влага. Тошнота уходит, заботливые сиделки торопливо собирают куски тела, пока целое не становится прекрасным — или настолько ужасным, что в этом ужасе есть своя красота.
— Ну, в общем, — продолжала она, — они вернулись больные, подхватили там что-то. Оказалось, что оно не заразное, но они будут этим болеть до конца жизни. Раз в несколько дней они внезапно теряют сознание. А перед тем истерически хохочут. Дурацкая болезнь, но ее пока не научились лечить. Золотые от нее не перестают быть золотыми.
Рэтлит рассмеялся. И вдруг спросил:
— А сколько времени они валяются в отключке?
— Всего несколько часов, — ответила Алегра. — Наверно, ужасно противно так болеть.
И я ощутил легкий зуд в разных местах, которые невозможно почесать, — между лопатками, в глубине уха, на нёбе. Вы когда-нибудь пробовали почесать нёбо?
— Ну что ж, — сказал Рэтлит, — давайте посидим переждем.
— Мы можем разговаривать, — предложила Алегра. — Тогда нам не покажется, что прошло так ужасно много…
И несколько веков спустя закончила:
— …времени.
— Хорошо. Я вообще хотел с тобой поговорить. Потому и пришел сегодня, — сказал Рэтлит.
— Замечательно! — воскликнула она. — Я люблю говорить. Я хочу говорить о любви. Когда любишь человека…
Невыразимая тоска по кому-то скрутила мне живот и поднялась комом в горле.
— …то есть когда по-настоящему любишь…
Тоска переросла в агонию.
— …это значит, что ты готов признать: человек, которого ты любишь, — не тот, кого ты полюбил вначале, не тот образ, который был с самого начала у тебя в душе; и ты продолжаешь любить этого человека за то, что он так близок к этому образу, и стараешься не возненавидеть его за то, что он от этого образа так далек.
Сквозь нежность, которая внезапно погасила всю боль, из-за стены золоченых мозаик донесся голос Рэтлита:
— Алегра, я хочу говорить об одиночестве.