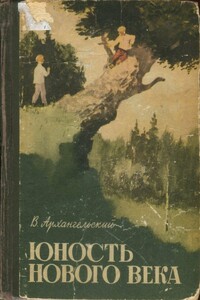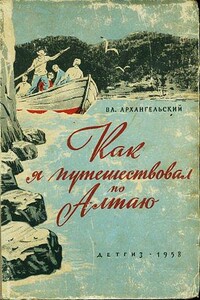Сегодня ходил три раза на квартиру к Аксельроду, и все никого нет дома. Мне очень хотелось послать Вам это письмо, зная, что скажет Аксельрод. Но мне так хочется поехать к Вам, что я все-таки поеду к Вам, если даже он скажет, что здесь можно скоро устроиться.
Я страшно досадую на себя, что не поехал прямо к Вам.
У меня есть поручение к Аксельроду, и я не могу уехать, не видев его, а жить здесь мне уже надоело. Если Аксельрода опять нет в Цюрихе, то я оставлю ему письмо и еду завтра; если же он здесь, то ответ будет зависеть от того, что он скажет, т. е. я уеду, может быть, через несколько дней.
В начале этого письма я написал, что вопрос о том, почему я уехал из России, для меня мучительный. Долго писать — почему, но он и сейчас меня мучает. Я знаю, что все те доводы, которые я сам же говорил, достаточны, и мое решение хорошо, но все же что-то на душе не ладно. Целую Вас крепко, крепко, до свидания. Ваш Виктор».
Слов нет, письмо получилось сумбурное, немного наивное. Но оно отразило почти все, чем жил тогда Виктор, — и юношескую влюбленность в старшего друга, и надежду на то, что лишь по совету с ним должно принять самое важное решение — о выборе жизненного пути.
Это решение — стать профессиональным революционером — окончательно сложилось в Англии, куда он и направился 10 сентября 1900 года.
В Мюнхене зарождалась «Искра», в Лондоне жадно набирался знаний ее будущий агент. И встреча с Владимиром Ильичем летом 1901 года в Мюнхене навсегда решила его судьбу.
Сумрачным уезжал Виктор из Швейцарии. И не только потому, что утратилась надежда повидать Аксельрода, — огорчили известия из Санкт-Петербурга.
В Цюрихской библиотеке попался ему на глаза «Листок Красного Креста» за 1899 год: царевы приспешники все круче и круче «завинчивали гайку», в длинном мартирологе мелькали имена друзей и знакомых, отправленных в медвежьи углы России. И в этих углах беззастенчиво нарушались права ссыльных.
Самая невинная прогулка за околицу поселка, где ссыльному было назначено жить пять-семь-десять лет, или кратковременная вылазка на охоту отныне признавались самовольной отлучкой. И ретивый исправник, одичавший в далекой глуши, назначал за это арест до семи дней. Подозрительной считалась вечеринка в доме ссыльного и даже частая переписка с друзьями. Наказание применялось немедленно — обыск, блошница или высылка в еще более глухие места.
Было о чем поразмыслить Виктору. Он уже не сомневался, что на исходе весны вернется в Россию, будет ставить на ноги организацию в одном из крупных городов и, конечно, попадет в лапы к какому-нибудь Пирамидову из охранки. А уж тогда не миновать забытых богом глухоменных поселений в морозной, таежной Сибири.
Но самой тяжелой была весть из села Ермаковского Минусинского уезда Енисейской губернии — ровно год назад там скончался от чахотки верный друг Ульянова, один из создателей петербургского «Союза борьбы», Анатолий Александрович Ванеев…
А поезд мчался на северо-запад и уже миновал границу Швейцарии. Франция — осенняя, плодородная, только что снявшая урожай фруктов, пропахшая виноградными соками, рассвеченная лимонной листвой деревьев — немного успокоила Виктора.
Неподалеку от Лангра и Шомона, за левым берегом быстрой, пенистой Марны, окончились отроги французских Альп, и поезд понесся по зеленой равнине вдоль Сены, на Париж.
Потемневшие от времени средневековые замки на холмах; маленькие таверны или белоснежные гипсовые мадонны на перекрестках дорог; ослики, мулы и кони с телегами, на которых громоздятся высокие корзины с ароматным виноградом; торговцы вином на каждой станции, зазывающие к себе пассажиров; крестьянские свадебные кортежи на булыжных мостовых проселка: красные и черные бархатные безрукавки, кружева на женщинах, старинные коты на пожилых виноделах; гитара или мандолина в руках у шафера; смеющиеся физиономии и веселая песня — беззаботная на вид и вечно неунывающая страна отрадных мудрецов и острословов!
В прозрачном утреннем воздухе мелькнула стрела великолепной ажурной башни Эйфеля, поставленной не так давно над Сеной, у Марсова поля.