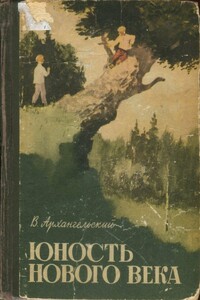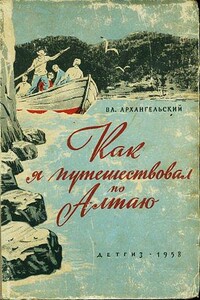Переход мой совершился очень благополучно, без одной неприятности.
Так как я переменил имя для заграницы, то пишите так: Цюрих, до востребования, Василию Петровичу Новоселову.
Мне страшно хочется Вас видеть. Итак, до свидания. Целую крепко. Ваш Виктор».
Цюрих был выбран с умыслом. Там жил П. Б. Аксельрод, на которого Виктор хотел опереться в первые недели заграничной жизни. 16 июля в Швейцарию уехал Ульянов, и его можно было встретить у Аксельрода. В Цюрихе мыслилась встреча с Сергеем Цедербаумом, как только он удерет из конвойной команды Балясного. Да и жить в Швейцарии было куда проще и легче, чем в других странах Европы.
Немцы требовали заграничный паспорт, выданный губернатором. Затем они вызывали в полицейский участок заполнить длинную анкету и очень интересовались, есть ли у эмигранта наличные деньги или текущий счет в банке. Французы и бельгийцы анкетой не запугивали, но требовали показать деньги и предъявить трех поручителей. Англичане не заглядывали в кошелек, им было достаточно, что у беглеца из России есть хорошая профессия и, значит, он не будет торговать спичками на улицах и выклянчивать пенсы у подданных английской королевы. А в Швейцарии порядки были отменные: заяви, что ты политический эмигрант без документов. А если найдутся два свидетеля, что ты не выдаешь себя за другое лицо, живи сколько хочешь!
4 сентября 1900 года Виктор Ногин сошел с поезда в Цюрихе…
ЖИЗНЬ ЭМИГРАНТА ВАСИЛИЯ НОВОСЕЛОВА
Был бы Виктор Ногин богатым туристом, очень бы понравился ему старинный город Цюрих.
В Большом городе, у подножья горы Цюрихберг, тесно сбились в кучу средневековые дворцы и замки времен рыцарских турниров и демократического правления могучих ремесленных курий. Неподалеку от них — нарядные дома нуворишей, тенистые улицы и многочисленные кафе, рестораны и магазины. А заводской пейзаж Малого, города за рекой Лиммат чудесно вписывался в красноватые отроги Альп, где синим облаком лежала в поднебесье широкая полоса густых лесов. Берега голубого Цюрихского озера были обрамлены садами и парками.
Цюрих жил спокойным и деловым ритмом. Рано утром улицы его заполнялись рабочим людом. Тысячи, десятки тысяч мастеровых, переговариваясь, торопливо двигались к фабрикам: там плавился металл, создавались станки, химикаты, бумага, шерсть и шелк. Чем-то родным веяло от этой армии торопливых людей, словно Виктор переносился на крыльях в Северную Пальмиру и попадал в привычную толкотню своих текстильщиков за Невской заставой. Найдет ли он место среди этих товарищей? Едва ли!
Дыхание большого спада докатилось сюда из России: нет объявлений о найме, у фабричных ворот идут тревожные разговоры о предстоящем расчете.
Перед вечером вновь валила по улицам рабочая толпа: ритмично шел в городе этот прилив и отлив. Кто-то из мастеровых катил на самокате с резиновыми шинами. Но, видать, и здесь это была новинка XX века: за велосипедистом всегда мчались подростки и бились об заклад, что зароется он носом в мостовую с высокого и узкого седла.
По утрам, когда мастеровые начинали смену, в городе шумели студенты. Они громко болтали на всех языках Европы, скапливались на скамьях возле университета и на широких приступках федеральной политехнической школы или в скверике у консерватории.
В полдень стремительно выбегали из контор расторопные клерки в черных костюмах и усаживались за кофе в летних ресторанчиках. А под каштанами и платанами появлялись фланирующие бездельники — в канотье и с тростями — и молодые дамы с собачками или с детьми. В экипажах разъезжали деловые люди в котелках или модницы в широких соломенных шляпах с метелками трепещущих от ветра перьев страуса.
Обыватели не лезли в душу с докучливыми расспросами. Мастеровые, студенты и клерки — в кафе или в парке — заговаривали непринужденно и все больше о том, что волновало тогда весь мир, — об англо-бурской войне и о боксерском восстании в Китае. И никто не скрывал возмущения, что восемь крупнейших держав послали войска для жестокого подавления китайских повстанцев.
Город был мил и приятен русскому сердцу молодого революционера: здесь живали Плеханов и Засулич; тут была штаб-квартира Аксельрода; здесь семь лет назад последнюю публичную речь произнес Фридрих Энгельс на конгрессе II Интернационала: верный друг Маркса еще верил тогда в революционный подвиг этой международной организации. А теперь она открыто якшается с Эдуардом Бернштейном.