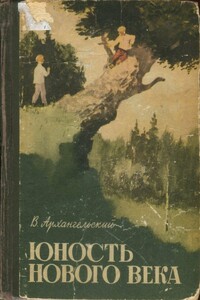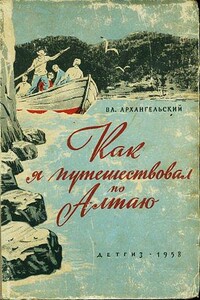Начал он с большого этнографического тома польского писателя Вацлава Серошевского «Якуты». Серошевский пробыл в Верхоянске четыре года и написал очень интересное исследование о быте, нравах и религиозных воззрениях якутского народа. Очень понравилась Виктору Павловичу страстная книга Ильи Мечникова «Сорок лет искания рационального мировоззрения». Затем он познакомился с исследованиями Трельса Лунда «Небо и мировоззрение в круговороте времен» и Вильгельма Оствальда «Энергетика».
Одновременно он прочитал и ряд книг по вопросам общественным: Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», Гильфердинга «Финансовый капитал», Гвоздева «Записки фабричного инспектора» и Гиэне «Лекции об искусстве».
У него были теперь газеты: «Русские ведомости», «Звезда», «Правда», а иногда и «Русское слово». И журналы: «Современный мир», «Русское богатство», «Природа», «Просвещение» и «Наша заря».
Зимой доставили в Верхоянск эсера Зензинова. Он подарил Ногину шеститомный роман великого английского писателя Генри Филдинга «История Тома Джонса, найденыша» на английском языке. «Я был прямо поражен тем эффектом, который эта книга произвела на меня. Я прямо не помню другой книги (беллетристики), которая оставила бы такое впечатление», — записал он в дневнике. Критика нравов, глубокий юмор, созвучный юмору Мигеля Сервантеса, обличения, временами саркастические, детали быта, тонкие диалоги, крепкий сюжет и прекрасная реалистическая основа — словно свежим ветром внеслись в закоптелую, угарную «виллу» Виктора Ногина.
Зензинов был эсером по наитию, террористом по убеждению и превеликим путаником в вопросах политики. Спорить с ним не было смысла. Но в одном он был человеком умным: любил и хорошо знал язык бриттов. На этой почве они и сблизились. И вместе прошли отличную школу беглой разговорной английской речи. Да и книг у Зензинова было много: лондонские издания Марка Твена, Оскара Уайльда, Джека Лондона и Редиарда Киплинга. И Виктор Павлович перечитал их.
Потом пришло известие, что Николай Романов сократил ему срок ссылки на один год по случаю трехсотлетия своей царственной династии. Надо было через короткое лето и еще одну долгую зиму готовиться в дальний путь, домой — за 9 тысяч верст.
В дневниках замелькали итоговые записи: нигде не приходилось ему быть в условиях более трудных, чем в Окаянске; ломала, давила его хандра; работал он над собой не так, как хотелось, временами опасался, что одичает. Но остался позади этот «порог отчаяния». «Жизнь опять вышла могучей волной на большую, верную дорогу, и я бодро смотрю вперед».
И нелюдимый ссыльный в первый же весенний день 1913 года далеко ушел от Окаянска и обратился с маленькой речью к… лошадям. «Сегодня ветра нет, и вечером я ходил гулять. Был в великолепном настроении и хотел хоть как-то проявить его. Но никто из товарищей не отважился прошагать десять верст по весеннему насту. И я потолковал с лошадьми, которые обступили меня, когда я проходил по пастбищу. Они ведь здесь ходят без пастуха всю зиму, добывая корм из-под снега. Мохнатые, обросшие длинной шерстью, они весьма своеобразны. Видно, им тоже не очень весело, и они заинтересовались мною, потому что человека видят не часто…»
День за днем стали появляться в письмах и в дневниках соображения о том, как сложится жизнь после ссылки. Он отбрасывал всякую мысль о мещанском благополучии семьи: никак оно не совмещалось с самым дорогим для него — с кипучей работой для революции. Он начал говорить «о возможной разлуке по той или другой причине» и просил жену понять его правильно: слишком дорогой ценой оплачивал он приближающуюся победу рабочего класса. И до окончательной победы революции не будет знать ни минуты покоя.
Не «исправила» его окаянская ссылка. Был он гнут и мят в пятидесяти тюрьмах. Но и гнутым и мятым оставался он большевиком. «Не скучай, моя милая, не унывай, — писал он жене 2 июля 1913 года. — От того ужаса, жизни, который называется пошлостью, от бессодержательности жизни нам с тобой хватит сил спастись!..»
Он признавался, что постарел. В Тульскую тюрьму вошел он в расцвете сил — молодым, с несокрушимой энергией борца. Из верхоянской ссылки собирался в дорогу с серебристыми нитями в каштановой шевелюре.