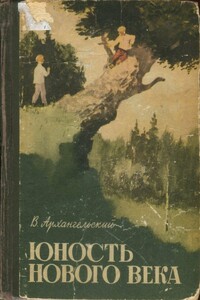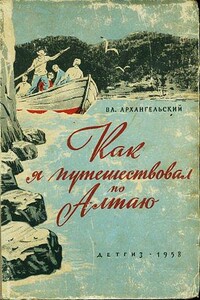Варвара Ивановна долго не решалась на этот шаг. Она просидела в Москве половину декабря, рождество и новый год, пока не заскулил Виктор: он провел праздники с глазу на глаз с больным отцом и готов был ехать хоть на край света.
«Милый брат Паша и дорогая мамаша! — писал он. — Пожалуйста, похлопочите обо мне, так как мне здесь скучно, потому что делать нечего, так что не знаю, как и день провесть…»
Не без горечи убедилась Варвара Ивановна, что Витеньке и впрямь не служить в Москве у Викула. И отправилась в Богородск, на поклон к Сергею Солдатихину, которого давненько пристраивал к делу Павел Васильевич. Долг платежом красен, и Сергей — племянник — уважил: в харчевом отделении главной конторы была нужда в мальчике. И место осталось за Виктором.
В середине января 1893 года, в лютый крещенский мороз, отец и мать усадили своего Витеньку в широкие ямщицкие сани, укрыли медвежьей полостью и благословили.
Ямщик гаркнул, дружно взяла с места тройка, под дугой у коренника залился колокольчик, комья снега из-под копыт полетели в лицо: новый морозовский «мальчик», не скрывая слез, с ветром помчался «в люди»…
Когородск оказался чистеньким и уютным городком на красивом, возвышенном берегу Клязьмы. Улицы в нем были вымощены булыжником, на городской площади новые каменные ряды с башенными часами. Ближе к реке — обширный парк, в каждом квартале — сады, сады, и ветви деревьев серебрятся инеем. И почти сразу за городом — кирпичные громады морозовских корпусов.
Виктор добрался до Солдатихиных, сдал Александре Дмитриевне и ее сестре Кате свои пожитки, а с дядей Сережей пошел на прием к хозяину.
Арсений Иванович сидел за огромным столом в мягком кресле и казался маленьким, но головастым. Действительно, голова у него была массивная, с залысинами, волосы в скобку и светлая седеющая борода — как узкая салфетка с острым концом. Глаза — серые, хваткие, даже злые, прикрытые пенсне, и посажены они тесно, почти впритык к носу, большому и бугристому, как залежалый соленый огурец.
— Новенький? — спросил он у Солдатихина, который, пригнувшись до пояса, тащил за руку статного паренька с волнистой каштановой шевелюрой. Хозяин не уловил в его осанке гордости или вызова: паренек, видать, не привык еще отбивать поклоны и шагал по ковру во весь рост, как на гвардейском параде.
— Он самый, Арсений Иванович! Мой родич, хочет послужить вам, отец-благодетель!
— Это похвально. Достойны уважения* те семьи, что служат Морозовым, — он сказал невнятно, словно наелся с утра овсяной каши и еще ее не прожевал. — Подойди, Виктор, на руку.
— Целуй! — шепнул Сергей.
Виктор вздрогнул, наклонил голову, шагнул. Хотел было ткнуться носом в тыльную сторону правой ладони хозяина, но отдумал: крепко сжал волосатую, сильную руку, тряхнул головой и ясными глазами поглядел на Арсения Ивановича:
— Благодарю вас, хозяин. Служить буду хорошо, а руку целовать не приучен.
— Вот ты какой?! — удивился Морозов. — Ну ладно, бог даст, обломаешься. — Он взял листок бумаги и написал: «Виктор Ногин. Мальчиком — в харчевое». — Закон мой знаешь: не пить, не курить, не воровать! Иди, пока поживешь у Сергея.
Через неделю Виктор писал в Москву: «Милый брат Паша! Я поступил сюда в главную контору в харчевое отделение, пишу харчи. Живу у Сережи. Встаю в 6 часов утра, пью чай в 8–9 часов. Обедаю с 12 до 2, пью вечерний чай с 4–5, ужин кончаю в 8 часов вечера. Адрес Сережи верен, он служит в красильном заведении, в отбелочном отделении Извини, что плохо написал, — некогда. Твой брат Вик. Ногин.
Мой адрес: Богородск, Глухово, фабрика Морозовых, в главную контору».
Закружился Виктор, как на карусели: глаза продерет утром — на дворе темным-темно — и сразу же к себе в харчевое. Распишет харчи для столовой, сбегает чаю попить; выпишет товар для лавочки, перекусит в полдень; И так снова до темени, потому что отработать надо ровно тринадцать часов. Мальчишки после ужина так размякнут, хоть за волосы растаскивай их по койкам. И Виктор на ногах едва держится. Но у Сергея выпросил он право читать на ночь книгу, часок либо два: при самой-то маленькой лампе — в семь линий — много керосину не спалишь!