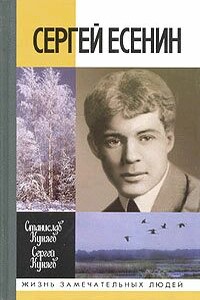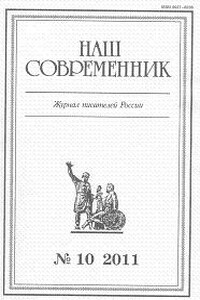Судя по всему, Пётр, далёкий в последние годы от своего брата, узнав из письма Николая о происшедшем, обратился в президиум писательского съезда.
На самом съезде царила весьма приподнятая атмосфера. Делегаты вершили суд над Достоевским, которого Горькому было «легко представить в роли средневекового инквизитора» и которого Виктор Шкловский предлагал «судить, …как изменника» от имени людей, «которые отвечают за будущее мира». Призывали «выкорчёвывать до основания из сознания читателя националистические и индивидуалистические образы». Объявляли, что «религия держит ещё и сегодня в плену миллионные массы во всём мире; религия является и сейчас орудием фашизма, и надо выбивать это орудие, надо показать, как революция разрушает эту страшную силу власти религии». Утверждали, что Толстой и Достоевский вместе с Ницше были «колоннами», поддерживающими старый несправедливый мир, и писатели призывались «дать бой» — и «это будет бой с титанами, который по плечу лучшим художникам старого времени», ибо «идеи таких титанов, как Толстой, Достоевский, Ницше», являются «теми высочайшими Гималаями идей старого мира, с которых в наши дни мутными ручьями стекают идеи фашизма и пацифизма»…
Имя Клюева на съезде поначалу не упоминалось вообще. Даже в докладе Бухарина, говорившего и о Блоке, и о Есенине, и о Гумилёве, и о Брюсове, не было сказано о сосланном поэте, который был ещё совсем недавно одной из ключевых фигур в русской современной поэзии, ни единого слова. Не вспомнил о нём и Николай Тихонов в своём содокладе. Но, видимо, когда до делегатов дошло письмо Петра Клюева, уже нельзя было сделать вид, что не существовало в отечественном поэтическом мире его знаменитого брата. И первым нарушил «заговор молчания» Александр Безыменский, который, поистине «в поединке не ослаб с косматым зубром-листодёром» — как написал Клюев в «Кремле»:
«Я думаю, что надо говорить не только о советских поэтах (в прямом и точном смысле этого слова), но и о тех поэтах, которые являются рупором классового врага, а также о чуждых влияниях в творчестве поэтов, близких нам…» С «рупора классового врага» он и начал, упомянув «империалистическую романтику Гумилёва и кулацко-богемную часть стихов Есенина»…
Сразу же боевой бородатый комсомолец перешёл к самим «классовым врагам»: «В стихах типа Клюева и Клычкова, имеющих некоторых последователей, мы видим сплошное противопоставление „единой“ деревни городу, воспевание косности и рутины, при охаивании всего городского — большевистского, словом, апологию „идиотизма деревенской жизни“».
После этого Клюев был снова забыт всеми выступающими вплоть до заключительной речи Максима Горького.
Руководитель нового единого Союза писателей вплёл имя Клюева в контекст своей полемики с Бухариным по поводу Маяковского, которому, по мнению Горького, был свойствен «вредный гиперболизм» — и этот гиперболизм оказал вредное влияние, в частности, на Александра Прокофьева. Но не только маяковское влияние отметил Горький. Процитировав несколько действительно пародийных прокофьевских строк, он вспомнил о своём давнем оппоненте.
«Вот к чему приводит гиперболизм Маяковского! У Прокофьева его осложняет, кажется, ещё и гиперболизм Клюева, певца мистической сущности крестьянства и ещё более мистической „власти земли“…»
Всё! На этом разговор о Клюеве был на съезде закончен. Писатели — и молчавшие, и говорившие — ясно дали понять, что вспоминать о нём более не желают. А если он и вспоминается, то как «апологет „идиотизма деревенской жизни“» и «певец мистической „власти земли“». У собравшихся «гуманистов» — ни особого интереса, ни сочувствия вызвать он не может. Дескать, туда ему и дорога!
В это же время в журнале «Крокодил» появляется поэма «молодого да раннего» Семена Кирсанова «Легенда о музейной ценности», герой которой — русский боярин, найденный «в гнилом ископаемом срубе» (очевидно, при уничтожении исторической Москвы), оживает после нескольких глотков из поллитровки (как же иначе!). Его демонстрируют как музейный экспонат, и «славянский фольклор изучают на нём», а тот демонстрирует свои литературные пристрастия.