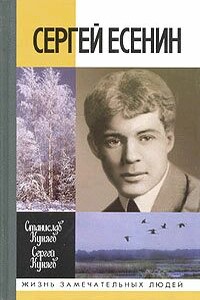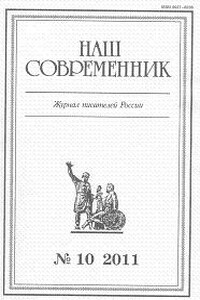Глава 34
РОЗА, СМЯТАЯ В НАРЫМЕ
В Томске Клюев снял угол в избе, значившейся как дом № 12 по переулку Красного Пожарника.
Из письма к Н. Ф. Христофоровой-Садомовой от 24 октября 1934 года: «На самый праздник Покрова меня перевели из Колпашева в город Томск, это на тысячу вёрст ближе к Москве. Такой перевод нужно принять как милость и снисхождение, но, выйдя с парохода в ненастное и студёное утро, я очутился второй раз в ссылке без угла и без куска хлеба. Уныло со своим узлом я побрёл по неизмеримо грязным улицам Томска. Кой-где присаживался, то на случайную скамейку у ворот, то на какой-либо приступок, промокший до костей, голодный и холодный, уже в потёмки я постучался в первую дверь кособокого старинного дома на глухой окраине города — в надежде выпросить ночлег Христа ради. К моему удивлению, меня встретил средних лет бледный, с кудрявыми волосами и такой же бородкой человек — приветствием: „Провидение посылало нам гостя! Проходите, раздевайтесь, вероятно, устали“. При этих словах человек с улыбкой стал раздевать меня, придвинул стул, встал на колени и стащил с моих ног густо облепленные грязью сапоги. Потом принёс валенки, постель с подушкой, быстро наладил мне в углу комнаты ночлег. Я благодарил, едва сдерживая рыдание, разделся и улёгся, — так как хозяин, ни о чём не расспрашивал, только просил меня об одном: успокоиться, лечь и уснуть. Когда я открыл глаза, было уже утро, на столе кипел самоварчик, на деревянном блюде — чёрный хлеб…»
Первый раз за всё время ссылки он встретил такое отношение к себе. Впору было залиться благодарными слезами. Хозяин же всё и объяснил: «„Пришла, — говорит, — ко мне красивая, статная женщина в старообрядческом наряде, в белом плате по брови: ‘Прими к себе моего страдальца — обратилась она ко мне с просьбой, — я за него тебе уплачу’ — и подаёт золотой“. Дорогая Надежда Фёдоровна, Вы поймёте мои слёзы и то состояние человека, когда всякая кровинка рыдает в нём. Моя родительница упреждает пути мои. Мало этого — случилось и следующее: я полез в свой мешок за съестным — думая закусить с кипятком, но, сколько я ни ломал ногтей — не мог развязать пестрядинной кромки, которою завязал мне конвойный солдат мешок. Хозяин подал мне ножик, я стал пилить по узлу и вдоль рубца, отлетела уцелевшая пуговка, а за ней из-под толстой домотканой заплатки вылез жёлтый кружочек пятирублёвой золотой монеты! Вы мне писали, чтобы я пересмотрел свою жизнь, я знаю, что за грехи и за личины житейские страдаю я, но вот Вам доказательство того, что не меркнет простой и вечный свет…»
Этот свет освещал ему последние годы его томского жития — словно последними ласками одаривал Спаситель — по молитвам за него давно ушедших.
Он знал, что его конец близок. А насколько он был близок — тому подтверждение было в том же документе о переводе поэта в Томск. На казённой бумаге появилось примечание, сделанное синим карандашом: «В дело массов.». Юрий Хардиков, первым исследовавший «Дело ссыльного Н. А. Клюева», дал существенное разъяснение по этому поводу: «По утверждению помощника прокурора г. Москвы советника юстиции В. Рябова, синий карандаш на делах тридцатых годов означал предрешённость судьбы — неминуемую гибель жертвы НКВД. Эта надпись на деле Клюева выполнила своё роковое предназначение».
* * *
Как и в Колпашеве, поэт вынужден был просить милостыню… Об этом вспоминала студентка медицинского института Нина Геблер в 1989 году:
«…Меня остановил очень пожилой, как мне показалось, мужчина, высокого роста, склонный к полноте, бледный, с несколько одутловатым лицом, с полуседыми волосами, подстриженными по-крестьянски под „кружок“. Одет был очень плохо: запомнилась синяя в белую полоску рубашка-косоворотка, по окружности опоясанная шнурком. Но, несмотря на плохую и даже грязную одежду и рваные брезентовые туфли, он имел вид благородного, интеллигентного человека. Он подошёл ко мне, протянул руку и попросил милостыню на кусок хлеба опальному поэту Клюеву. Я смутилась, денег как будто со мною не было, и я предложила ему зайти к нам…»