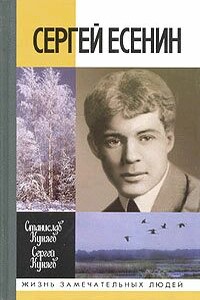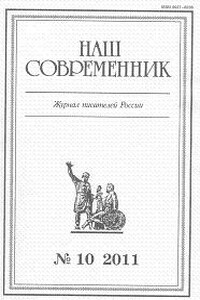Русь в поэме — «Последняя Русь» — поле битвы сил неземных, сил божественных с силами дьявольскими: «Не жжёт ли гада свет-Егорий / Огнём двоперстного креста?!» То ли во сне, то ли наяву Параша после недели гощения отправляется к отцу Нафанаилу — «беглецу из Соловков» (здесь и воспоминания Клюева о собственном бегстве в ранней юности!). И входит к нему уже иной — словно некогда духовная дочь неистового Аввакума приходит на беседу к своему духовному отцу («И как Морозова Федосья, / оправя мокрые волосья, / она свой тельник золотой, / не чуя, что руда сгорает, / над зверем, над ощерой тьмой / рукою трезвой поднимает / и трижды грозно осеняет!..»). И слышит страшное пророчество:
Пройдут года,
Вы вспомните мои заветы, —
Руси погаснут самоцветы!
Уже дочитаны все свитки.
Златые роспиты напитки.
И у святых корсунских врат
Топор острит свирепый кат!..
В царьградской шапке Мономаха
Гнездится ворон — вестник страха…
Кажется, что пророчество прямо относится к тем годам, когда Клюев писал свою поэму. Но ещё в большей степени это пророчество можно отнести к более позднему времени, когда расточено было не только царское, но и советское наследие, о чём поэт далее будет пророчествовать в «Песни» уже от своего имени.
Судьба не одной России в этом предсказании, но судьба её певца, сына Прасковьи.
…До сатанинского покоса
Ваш плод и отпрыск доживёт
В последний раз пригубить мёд
От сладких пасек Византии!..
Прощайте, детушки! Благие
Вам уготованы сады
За чистоту и за труды!..
Во снах перед Прасковьей проходит вся история Руси с дохристианских времён… «Цветут сарматские озёра гусиной празеленью, синью…» Видение переносит её через тысячелетие — и вот её.
В простой ладье, рекой напевной,
В полесья северной земли
От Цареграда привезли.
Она Палеолог София,
Зовут Москвой её удел,
Супруг на яхонты драгие
Иваном Третьим править сел…
Эпоха Ивана III была для Клюева одной из самых дорогих в истории России — ещё в «Ленине» он сравнивал с ней эпоху революционного вихря («То чёрной неволи басму попрала стопа Иоанна…»)… И насколько же он психологически точен! Матушка не в силах выдержать этих сновидений — особенно когда после царского терема «снится Паше гроб убранный»… Чрезвычайно важно здесь для Клюева и то, что «Арина с тёткой Василистой» для отчитки её — староверки — приглашают лопарского шамана («Он тёмной древности посланец, по яру — леший, в речке — сом»), и то, что Егорий указывает путь стародавнему киту из тех, на которых держится испокон веку земля и который отождествлён с поморским домом, — на Восток, «где Брама спит», — подальше от тлетворного Запада, от которого лишь распад и нестроение на Руси… Запад же уничтожит Русь Святую изнутри, войдя в неё через напророченного Нафанаилом «родимого сына» — и оттого «печаль у старого кита клубится дымом изо рта»…
И саму Прасковью грех не минул. Влеклась к «Федюше, сыну Калистрата», а отдалась старому вдовцу, отцу «Аринушки-подружки»… И тут в Парашином сне — смертном уже сне — происходит нечто поразительное.
Отправилась в новое путешествие — на Царьград, да в Индию… Да оказалась посреди зимних сугробов в чаще, где возжелал её «Топтыгин, бегун с дремучей Выги»… И здесь сюжет взят непосредственно из жизни.
Уже в 1925 году в Олонецкой губернии в одну из деревень повадился медведь, нападавший на скот. Старики деревенские, памятуя старые «свычаи да обычаи», надоумили, как справиться с бедой. Медведю надо было отдать самую красивую девушку. Выбрали, нарядили невестой, привязали к дереву у медвежьей норы. «Не осуди, Настюшка. Ублажай медведюшек. Заступись за нас, кормилица, не дай лютой смертью изойти».
Неведомо, что стало с Настенькой (знаковое для Клюева имя!), только историю он эту знал. Как знал и то, что сплошь и радом медведи нападали на девушек в период менструации… Культ медведя на Севере давний, и невозможно не заметить, как Клюев по возможности избегает при описании сцены нападения на Парашу назвать медведя даже этим, придуманным («мёд ведающий») именем. «Топтыгин» — оно спокойнее, как привыкли называть «прародителя человеческого» на Севере, где предпочитали также говорить «он» или «хозяин».