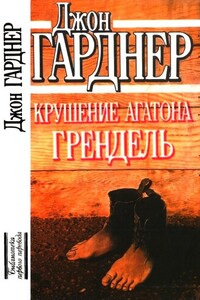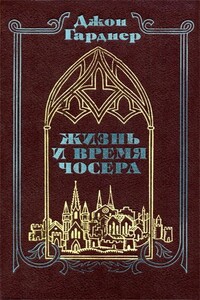Я задумался над этими словами, разглядывая ее синяки. Они вдруг — вероятно потому, что она на минуту забыла о своей скрытности и хитрости, — перестали быть отталкивающими. Просто наружное облачение, театральный занавес, о котором Миранда говорила. Внешняя оболочка вечного страха и желания.
— Подожди, я сейчас, — бросил я ей, вскакивая.
Я сразу же вернулся, принес таз с водой и полотенца.
Она испуганно отпрянула.
— Джонатан!
Но я не обратил внимания. Сел рядом с нею на койку и осторожно стер у нее с губы кровь. Намочил и выжал край полотенца, вытер шею, потом плечо. Она дрожала.
— Не бойся, — сказал я.
— Джонатан, пожалуйста!
Но я успел кое-что заметить. Мне было понятно каждое движение ее души, потому что по своей — пусть вредной — природе она ничем не отличалась от меня, от Уилкинса, от мудрого Джеймса Нгуги. Какого бы континента, какого бы века дочерью ее ни считать, не было у нее в душе ни страха, ни надежды и ни тени предубеждения, которых бы мы с ней не разделяли. Я перестал о чем бы то ни было думать. Теперь я управлял ею не хуже любого гипнотизера. Мог успокоить стыд, излечить отвращение к себе, мог оказать поддержку, когда пробудится чувство вины — восьмой и самый смертный из семи грехов. Если я ее тиранил, соблазнял, то лишь тем, что сам стал ею. Не «Верь в меня!», а «Я верю!». Она коснулась правой рукой моего плеча, чтобы я перестал, а левой ладонью прикрывала кровоподтеки на лице.
— Не надо, Джонатан, — прошептала она.
Извечная женская попытка спрятаться в тени, в хитрости и скрытности, составляющих закон сущего. Я смотрел на нее и ни о чем не думал, лишь ощущал всеми порами, лишь желал ее. Наконец Миранда опустила веки. Я стал раздеваться, снял рубашку. Она молчала и на меня не взглянула. Я снял остальную одежду и лег рядом с нею, старательно избегая соприкосновения с ее телом. Я ведь знал, о чем она сейчас думает, я видел ее лицо своим мутным косящим левым глазом. О торжестве жизни без пиршества плоти, о любви без насилия.
— Поедешь со мной в южный Иллинойс, — сказал я. — Вот уж где не действуют обычные законы географии, где неприменимы философские доктрины и ходячие мнения. Там бушуют ужасные торнадо, немыслимые ветры. Весной холмы зеленее изумрудов, небо синее кобальта, а по небу — облачка несказанной белизны. И никаких опасных животных ни вверху, ни внизу, не считая баптистов и братьев Гарпов, но этих мы оставим с носом, вот посмотришь.
Я коснулся ее груди. И вдруг она повернулась и привлекла меня к себе.
— Ты так смешно косишь! — шепнула она. Я прочел в ее лице безумную, неожиданную мысль. — Джонатан, я тебя люблю, — прошептала она. — У тебя такой нелепый вид.
Я вдруг сразу весь ожил. Мне показалось, что ожил весь корабль. Руки мои замерли у нее на плечах; не сознавая, я уже понял.
— Ветер! — шепнул я. Она затаила дыхание, прислушиваясь.
— Ветер! — сказали мы оба сразу. Небо за иллюминаторами переменилось. В нем расцветали молнии.
— Спи, Миранда. Я вернусь, когда смогу. — И не дожидаясь ее ответа, не задержавшись даже, чтобы одеться, я выбежал на мостик.
— Нгуги! Ветер! — заорал я.
Нгуги встряхнулся ото сна, словно марионетка, которую поддернули за веревочку, и в тот же миг очнулась и все остальная команда.
— Ветер! Он! — крикнул Нгуги мне в ответ, и глаза его вытаращились, губы растянула улыбка шириной с Млечный Путь и полная заморского ликования, как темно-зеленая, медленно текущая река Конго. Плотный воздух, загадочно вибрируя, отразил: «Он!» Наш перебитый экипаж весь собрался на палубе, готовый выслушать и выполнить приказ. Маленький чернокожий очкарик Чарли Джонсон весело захлопал в ладоши — сейчас сорвется с места бегом.
— Паруса! — завопил я. — Надо скорее шить паруса! Простыни, рубахи, платки — все годится в дело, лишь бы ветру нашлось за что зацепиться!
Они со всех ног бросились в разные стороны — вниз по трапам разорять постели, распарывать робы и сшивать паруса — ниткой, канатом, ногтями, ножом, свайкой. Я ободрал капитанский салон, сорвал одеяло с Миранды.
— Тысяча извинений, — говорю я и приступаю к пологу ее туалетного столика.