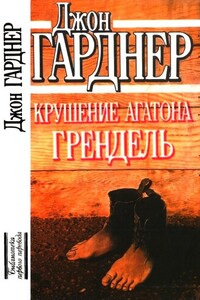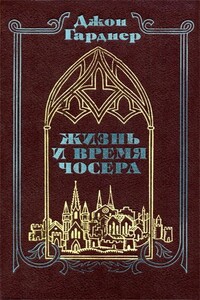— Заботиться обо мне? — язвительно повторила она. — Ах, до чего ты добр, Джонатан.
— И любить тебя. Это тоже. — Голос мой звучал слабовато, и бог знает откуда взялись слова.
Она снова рассмеялась, и лицо ее одушевилось чем-то вроде ненависти; вдруг, с быстротой кошачьей лапы, она до подбородка натянула одеяло и застыла, вытянувшись и плотно смежив веки. Сначала я растерялся от этого злобного щелчка по носу, но тут же понял и сам готов был рассмеяться. На ее месте я, может быть, и спрятался бы под одеялом, но только разве из неуверенности, если бы еще была щелка в стене моего отчаяния. Ее крашеные черные волосы были жесткими и колючими, но у корней уже виднелась нежная желтизна — первый проблеск весны.
— Ах, ах, злая Миранда, — сказал я. Придет время, она еще снова полюбит себя. Будет прихорашиваться перед осколком разбитого зеркала на стене, улыбаться так, чтобы не видно было выбитых зубов, кокетливо опускать ресницы над поврежденным глазом. Я мог бы повторить ей слова Уилкинса: «Не существует никаких твердых принципов». Я положил руку ей на плечо, и меня как током дернуло возбуждение. Я своим тиранством еще заставлю ее выздороветь. Она затрепетала, но не отвернулась. — Все будет хорошо, Миранда.
Она долго молчала, вся ощетинившись, как мне показалось. Потом вдруг приподнялась слегка и повернулась ко мне.
— Глупец, — прошептала она, — я же для тебя выманила отца на палубу. Ты, как ни ухищрялся, не мог его найти. Сколько вас ни было, никто не мог заставить его вам показаться.
На мгновение я смешался. Мне вспомнилось, как она лежала, вся замерев и вслушиваясь. Я сказал:
— А тот матрос, которого ты убила? Это тоже для меня, Миранда?
— Нож метнули, Джонатан. Ты, верно, смотрел в ту минуту на матроса. А поглядел бы в окно каюты, сам увидел бы, как его метнули.
Я усмехнулся, я хотел бы ей поверить и уже наполовину поверил.
— А когда я в тот раз поймал тебя за руку у моей койки?
— Я искала книги, не хотела, чтобы ты из них узнал, кто я, и потом презирал меня. Разве ты можешь понять, каково это, когда… — Она смолкла, гордость не позволила ей показывать свою человечность, если только я правильно понял. — И ведь это были мои книги, помнишь?
— Да, конечно. А когда ты мне рассказала эту дурацкую басню с привидениями? «Верь в меня, Джонатан!» И это тоже для моего блага?
— Это не басня, а совершенная правда. Даже отец не мог ни к чему придраться.
— Сфабриковано. Работа Уилкинса. Он сам признался.
Я следил за выражением ее лица.
— Уилкинс врет!
Я покачал головой.
— Миранда, бедная упорствующая Миранда! — проговорил я.
— Глупец! — шепотом повторила она и отодвинулась к стене. Свисавший конец одеяла шевельнулся. — «Бедная упорствующая Миранда!» Что ты знаешь о бедной Миранде? Ты, или кто-нибудь, или даже сама бедная Миранда? — Я видел, что она вот-вот расплачется, но не от жалости к себе, а от избытка досады на меня и весь свет. — Я всю жизнь жила с этим полоумным дьяволом-фокусником, я, может быть, даже любила его… по-детски. Пускай, неважно. Он был мне отцом, он любил меня, что бы ты там ни говорил, хотя, конечно, он был дьяволом. Неважно. Я тоже обучилась фокусам: театральная улыбка девочки-невесты на устах, когда папочка вне себя от ярости, и настоящая улыбка, но по виду неотличимая от той, — когда папочка в каталажке, или в запое, или ведет речи о самоубийстве. «Будь настоящей Мирандой», — говоришь ты. Но театральный занавес — мое платье, и душа моя — звук рояля под пальцами тапера. Ты, может быть, думал, я вырасту чистая и невинная, не затронутая окружающей жизнью, вроде алмаза, таинственно рожденного в лесной чаще, или твоего приятеля с костью в носу, Черномазого Джима? Но чистоты и невинности не бывает в театре, или в лесу, или в океане — и злодейства тоже. Только борьба за выживание, только хитрость и скрытность. Медленно расползается занавес, один глубокий, глубокий вздох и — господи, благослови! — жуткий, слепящий свет. Невинность, Джонатан? Эх ты, бедный упорствующий глупец! — Она отвернула лицо, чтобы я не видел, как по щекам у нее текут слезы. — Я была красива, — проговорила она.